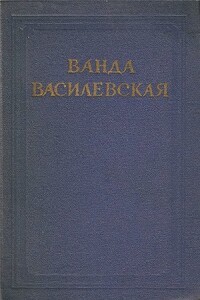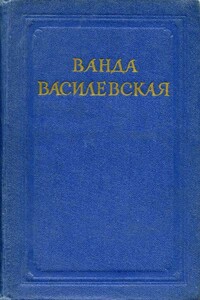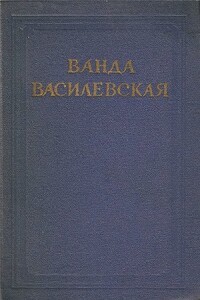Радуга | страница 43
А вот теперь достаточно было этого давящего, как кошмар, получаса, чтобы все сразу переменилось. Пока еще никто не знает, пока еще ничего не заметно. Но пройдут дни, и ее несчастье предстанет перед всеми глазами, словно того было мало, словно мало, что на ней выжжена печать несмываемого позора. Нет, надо еще носить в себе фрица, в муках рожать фрица. Кто ей поможет, кто захочет быть подле нее в ее тяжкий час?
А Ольга плачет от страха смерти. Нет, Малаша была уверена, что смерть не придет. Она не знала, что случится, не думала, это было невозможно, что кто-нибудь явится, что кто-нибудь выдаст мертвого мальчика и тех, кто его выкрал из немецких рук. И, конечно, никто не отдаст немцам хлеба. Она не знала, как это выйдет, почему это выйдет, но была совершенно уверена, что не умрет, что ее не убьют. А если не убьют ее, то ведь, значит, и те останутся в живых.
Чечориха сначала молча гладила руку Ольги. Но плач не прекращался, и она потеряла терпение.
— Чего ты ревешь? Что будет, то будет. Стыдно плакать.
— Я же не хочу плакать, оно само как-то плачется, — всхлипнула Ольга беспомощным, детским голосом, который прозвучал в ушах Чечорихи, как голос ее младшенькой Нины. Она смягчилась.
— Ну, тихо, тихо… Ничего ведь еще неизвестно…
Малаша в своем углу горько улыбнулась во тьму. Известно, отлично известно. Никакой надежды на смерть — нет.
— У меня там трое мелюзги осталось, что там теперь с ними… а я не плачу, — сказала Чечориха. Ее вдруг охватила неудержимая тоска по детям. Хоть бы на минуту увидеть! Что-то они делают, что с ними? Взяла их Малючиха к себе, или нет? А может, они остались одни в избе и боятся, боятся надвигающейся ночи, боятся шагов на улице, боятся, как стали бояться всего с первого дня, когда пришли немцы и вышвырнули их из дому.
— Вон! — орал высокий фельдфебель и ударил ее прикладом, когда она было стала собирать кой-какие тряпки, чтобы дети не замерзли. — Вон! — повторил он, и дети, как ошпаренные, выскочили из дому, в одной рубашонке, на мороз, на снег.
Потом немцам изба не понравилась, они перебрались в другую, можно было вернуться, снова жить дома. Надо было только вычистить сени. Немцам, видно, не хотелось выходить на мороз, и они нагадили в сенях, у самого порога. Им не мешало, что по всему этому приходится ходить в комнату, что в избе будет вонь. Она с омерзением собирала немецкое дерьмо и подозрительно обыскивала избу, не нагадили ли они и там. Тогда она думала, что они делали это назло, покидая непонравившийся дом. Но потом, когда они побыли в деревне, оказалось, что они всюду так делают, что им просто все равно.