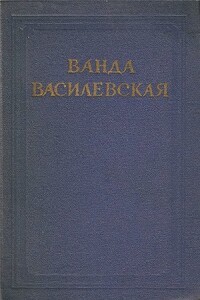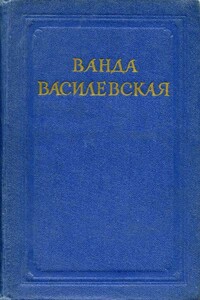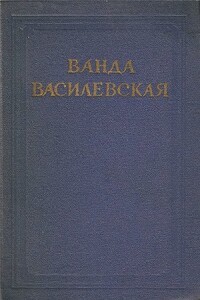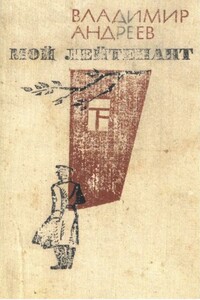Радуга | страница 14
Но все-таки это была ночь. День, наконец, кончился. Еще один день. Она уже не принуждена слышать кудахтающий смех офицера и умильное сюсюкание его девки. Видеть косые, коварные взгляды, которые та бросала на нее целый вечер. Она, видимо, решила немного позабавиться, не говорить сразу, а держать Федосию под бичом ожидания. Нет, она ничего не сказала. Она искоса, с улыбочкой следила за Федосией и тешилась, что та вся в ее руках, что она в любой момент может нанести ей удар. Она радовалась своей минутной власти. Теперь она может сделать, что захочет, с сердцем матери. В ее власти и тот, лежащий там в овраге, на снегу. В любой момент она может выдать его в мерзкие немецкие руки, в любой момент может нарушить его мертвый покой, швырнуть его на издевательства врагу.
Весь вечер замирало сердце старой женщины. Но теперь, когда она лежала без сна и, глядя на мерцающий в окне синий свет, слушала ненавистный храп, доносящийся из горницы, в ней вдруг все взбунтовалось. Ну и пусть их, пусть их!
Они отняли у него все, стащили с него сапоги, шинель, штаны. Его уже раз касались немецкие руки, они уже раз бросили его на снег, бросили, может, еще живого, на убивающий мороз. Ненецкая пуля уже выпила из него кровь, он уже мертв. И не взглянет больше серыми, веселыми глазами, никогда больше не запоет: «Роспрягайте, хлопцы, конив…». Что же из того, что они еще раз оплюют его, надругаются над его телом. Тем хуже для них, тем хуже для них… Все равно навеки останется в памяти людей веселый парень, Вася Кравчук, что пел лучше всех, а потом погиб у своей деревни, в овраге над речкой, где прежде столько раз поил лошадей, погиб за свою землю, за свою речь, за счастье людей и свободу людей. Этого не смогут изменить, не смогут вычеркнуть из людской памяти немецкие руки. В ней будет записано и то, что они и после смерти не оставили его в покое, что и после смерти издевались над его телом. Это запомнит не только материнское сердце. Запомнит народ в деревне, запомнят те, что придут, что прогонят отсюда прочь немецких разбойников. Сто раз суждено им заплатить за каждую каплю его крови, за каждую минуту, что он пролежал нагой на морозе, за каждый пинок немецкого сапога.
Теперь ей хотелось, чтобы уже поскорей пришло утро. Пусть она скажет, эта черная крыса, процедит сквозь свои острые зубы, пусть все скорей случится. И пусть увидит своими круглыми черными глазами, что Федосия не побледнеет, не заплачет, не бросится на колени просить, чтобы у нее не отнимали единственное, что у нее осталось, — обращенное морозом в камень тело сына. Проклятая, играет ее страхом, мукой материнского сердца. И вот Федосия выбьет все это из ее рук. Черная крыса ошибется, она не дождется ни плача, ни просьб, ее торжество не удастся.