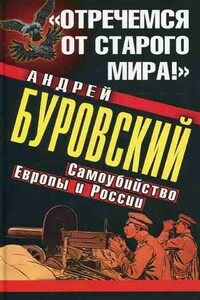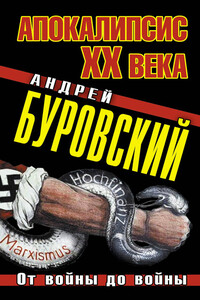Оживший кошмар русской истории. Страшная правда о Московии | страница 40
Единодержавие должно иметь основания. На Западе, в Китае и Японии основанием были обычай и закон. В Византии — традиции поздней Римской империи и необходимость сохранять целостность этой империи.
В Московии основанием стало то, что Великий князь, потом царь — это тоже слуга государства. Все служат — и он служит. Так сказать, общее благо дороже.
Дмитрий Донской, сражавшийся как рядовой воин, — прекрасная иллюстрация этому. Он — один из всех, и делает то же, что все. Так сказать, действует не по своей воле, а по воле необходимости. Если даже летописи изрядно преувеличили ранения Дмитрия, полученные им на Куликовом поле, приходится признать — Дмитрий Иванович «честно» выкупил власть своей кровью.
Точно так же и Петр I, который лично вытаскивал застрявшие в грязи пушки, заколачивал сваи, возглавлял атаки на шведские корабли, и Александр I, посвятивший парк в Царском Селе «Дорогим моим сослуживцам», всего лишь поддерживают «служебную» московскую традицию. Российская империя вышла из Московии и не всегда последовательно, но все же старалась продолжать ее путь.
Традиция тяглого государства позволяет многое что «списывать», оправдывать, в том числе и собственную агрессивность. Агрессивность Московии часто, слишком часто объясняли тем, что на ее границах нет никаких естественных преград: высоких гор, рек, пустынь. Лучше всего эта идея выражена в книге Ф.Ф. Нестерова, где утверждается: Россия открыта во все стороны света, и потому завоевание любых рубежей означает только одно — выход на новые рубежи. А со всех рубежей катятся бесконечные волны вражеских нашествий…
Это, мол, и потребовало от русских невероятной дисциплины и самоотверженности, готовности служить государству до последней капли крови. По Нестерову, Московия постоянно проигрывала по численности и по качеству вооружения, но всегда ухитрялась сосредоточивать максимум войск на необходимом направлении. А сами войска, при самом плохом вооружении и невероятной бедности, готовы были являть чудеса героизма, безоговорочно отдавая свою жизнь во имя и на благо государства. «Жить не необходимо», если «зато» противник задержался ненадолго, пока резал, и уже собственной гибелью человек внес вклад в общую победу… Если читатель сочтет, что я преувеличиваю, приписывая оппоненту лишнее, — то отсылаю вас к его книге.
Автор приводит пример, когда в память о некой героической рукопашной один из армейских полков получил редкий знак отличия — красные отвороты сапог. «Зачем же было выделять одну воинскую часть, когда весь народ на протяжении своей истории отбивался, стоя по колено в крови?» — патетически восклицает Нестеров