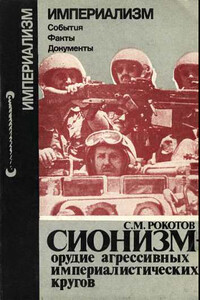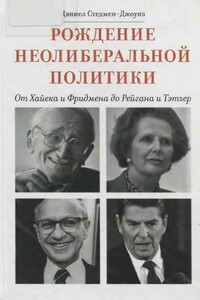Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-1956) | страница 52
Пусть и не столь драматичный, как реабилитация Ивана Грозного, идеологический сдвиг, наиболее ярко характеризующий национал-большевизм того времени, возник по инициативе Л. З. Мехлиса, главы Политического управления Красной Армии. Вслед за выпуском учебника Шестакова в 1937 году, РККА, как и остальные политические институты общества, приняла меры по изменению своего идеологического репертуара: имена царских полководцев, например, А. В. Суворова и М. И. Кутузова, стали дополнять более традиционную пропаганду, основанную на пролетарском интернационализме и героизме советских солдат времен Гражданской войны. Но смена исторических парадигм происходила здесь более медленно и сдержанно чем в гражданском обществе, и это сказалось на боевой готовности РККА в конце 1930 годов. На встрече в 1940 году, организованной по инициативе Народного комиссара обороны для обсуждения кровопролитных боев, прошедших зимой в Финляндии, Мехлис выступил перед командирами Красной Армии с повергшей всех в изумление речью. Заметив, что существующая пропаганда не оказывает должного воздействия на солдат, Мехлис призвал к снижению интернационалистской риторики в пользу лозунгов, вдохновляющих на защиту родной страны [191]. Двумя годами ранее в боях на Халкин Голе, например, агитация, объяснявшая советские военные действия против японцев как «помощь дружественному монгольскому народу», не нашла соответствующего отклика в сердцах красноармейцев. Однако они стали сражаться заметно лучше, стоило пропаганде приравнять защиту Монгольской Народной Республики к обороне СССР. Аналогично интернационалистические призывы во время Зимней войны 1939-1940 годов — за освобождение финского народа, свержение реакционного режима Маннергейма, и формирование народного правительства — не вдохновили солдат Красной Армии. Но как только агитработники сформулировали главную задачу как обеспечение безопасности Ленинграда, укрепление оборонительных позиций вдоль северо-западной границы и нанесение упреждающего удара по возникшему в Финляндии капиталистическому плацдарму, войска обрели в значительной степени большую мотивацию [192].
Однако Мехлис громил не только пропаганду, выстроенную вокруг идей пролетарского интернационализма. Не доверяя всем идеалистическим, абстрактным формам агитации, он подверг критике приоритет, который в Красной Армии отдавался выпущенному через год после шестаковского учебнику партийной истории, — «Краткому курсу истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)». Изучение этого непростого труда, по мнению Мехлиса, препятствовало более практичной пропагандистской работе в войсках: «Мы увлеклись только пропагандой "Краткого курса истории ВКП (б)" и забыли пропаганду, обязывающую реагировать на все. Пропаганда военной культуры и знаний еще не стала неотъемлемой частью всей воспитательной работы в Красной Армии. Необходимо помочь начальствующему составу изучать военную историю, усвоить специальную и военно-историческую литературу, в совершенстве овладеть военным искусством»