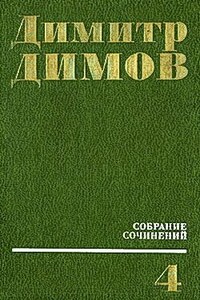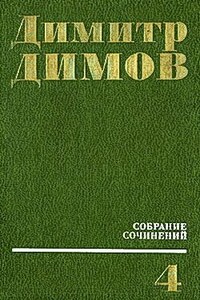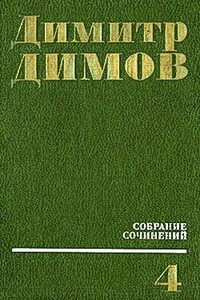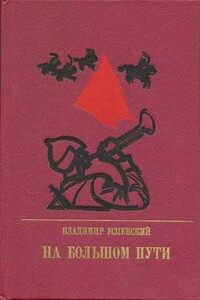Осужденные души | страница 66
Теперь все внимание публики сосредоточилось на нем. Его как лицо духовного звания освободили от присяги, и он ровным металлическим голосом, с сухой точностью, словно обвиняя какое-то невидимое зло, описал все происшествие. Слова его падали в тишине с неумолимой строгостью, с почти зловещим бесстрастием. Фани почудилось, что, наверное, именно так говорил сам Торквемада.[33] И в последний момент четко, ясно, не повышая и не понижая голоса, он заявил, что первый удар нанес Джек Уинки.
На несколько секунд зал замер. Фани слышала только сухое покашливание прокурора да биение своего сердца. В той части зала, где сидела американская колония, пронесся глухой шепот, а потом вдруг испанские рабочие, составлявшие массу публики, зааплодировали. Джек стал бледен, как парафин, Клара, ничего не понимая, смотрела с испугом, а Мюрье подпирал голову то одной, то другой рукой. Темные глаза Мартинеса-и-Карвахала мрачно горели под его насупленным цицероновским лбом. Шея его побагровела от волнения. Он весь кипел от страстной ненависти к иезуитам и к республике. Дело прогорало, но в этом последнем процессе он заклеймит навсегда падение общественной жизни в Испании. А пока он обуздывал свой гнев, чтобы излить его в защитительной речи с тем ужасающим красноречием, которое наводило трепет на всех его противников в кортесах от крайних левых до клерикалов и монархистов. Но все же, чтобы хоть на чем-то сорвать сердце, он воскликнул драматически:
– Предлагаю привести свидетеля к присяге!
К общему негодованию испанской публики, монаха принудили присягнуть. Он сделал это спокойно, с безупречным достоинством, и в тоне его было горестное сожаление о нарушении традиции. По залу прокатилась волна симпатии к иезуиту.
– Граждане Испании!.. – внезапно воскликнул Мартинес-и-Карвахал, и в голосе его прозвучала едкая, убийственная ирония. – Слушайте! Иезуит клянется в верности правде!
Он повернулся лицом к публике и, расправив свою тогу, якобинским жестом показал на монаха. Вот что было самым страшным у Мартинеса-и-Карвахала, вот что везде вносило смуту. Он мог убить своим языком. Иезуит клянется в верности правде! Это все равно, как если бы черт читал Евангелие. Рабочие, сами того не желая, начали смеяться. Эх, и язык же у этого Мартинеса-и-Карвахала! И публика продолжала смеяться легко, беззлобно, по-испански, пока ее не утихомирил звонок председателя. Фани заметила, что твердые черты монаха болезненно исказились.