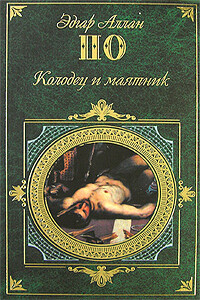Террорист | страница 42
— Да, успокоение, да, успокоение, — вторит ей толстуха и ускоряет темп под грохот одобрения, любви слушателей, ибо ее голос погружает их, а потом вытягивает на поверхность из глубины их существования, — так, во всяком случае, чувствует Ахмад. Ее голос прокален страданиями, которые еще предстоят Джорилин, они лежат лишь легкой тенью на ее молодой жизни. Обладая таким авторитетом, толстуха с широким, как у каменного идола, лицом запевает снова: «Что за друг». Ямочки появляются не только на ее щеках, но и в уголках глаз и по краям ее широкого плоского носа, а ноздри раздуваются под острым углом. К этому времени песнопение так глубоко проникло в вены и нервы собравшихся тут, что каждое слово воспринимается ими. — Все наши прегрешения — именно все наши прегрешения и беды… ты слышишь, Господи? — Хор — в том числе и Джорилин — неустрашимо подхватывает, а толстуха в экстазе размахивает руками, на миг вздымает их в бойком, комически победоносном жесте человека, спустившегося по трапу после путешествия по штормовому морю, и, выбросив указующий перст в сторону корчащегося балкона, выкрикивает: — Вы слышите? Вы слышите?
— Мы слышим, сестра, — отвечает ей мужской голос.
— Что ты слышишь, брат? — И сама отвечает на вопрос: — Все наши прегрешения и беды. Подумай об этих прегрешениях. Подумай об этих бедах. Они — наши дети, верно? Прегрешения и беды — это рожденные нами дети.
Хор продолжает тянуть мотив, только ускорив теперь темп. Орган тяжело и бойко грохочет, палочки деревянного инструмента невидимо постукивают, толстуха закрывает глаза и громко выбрасывает:
— Иисусе, — перекрывая безостановочно бьющий ритм, выкрикивает сокращенно: — Иис. Иис. Иис. — И разражается поступающей песнью: — Благодарствую, Иисусе. Благодарствую, Господи. Весь день и всю ночь благодарствую за любовь твою.
И когда хор поет: «О, какую ненужную муку мы терпим…» — она всхлипывает:
— Ненужную, ненужную. Нам надо отнести ее Иисусу, надо, надо! — И когда хор, которым по-прежнему дирижирует маленький мужчина со взбитыми волосами, доходит до последней строки, толстуха поет вместе с ним: — Со всем, со всем, с каждой мелочью взываем мы в молитве к Господу. Да-а-а.
И хор — а с ним и самый широко раскрытый ротик Джорилин, самый свежий ротик — умолкает. У Ахмада жжет глаза и в животе такая буря, что он боится, как бы его не вырвало прямо тут, среди этих скулящих дьяволов. Лжесвятые в высоких темных закопченных окнах смотрят вниз. Лицо хмурого, с седой бородой загорается от прошедшего по нему солнечного луча. Девочка незаметно для Ахмада прижалась к его боку и вдруг стала тяжелой, заснув под гремящую будоражащую музыку. А все остальное семейство, сидящее на скамье, улыбается, глядя на него, на нее.