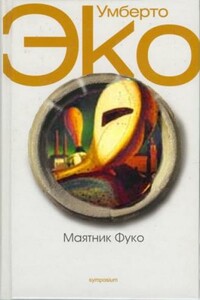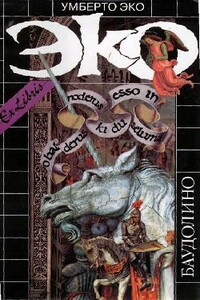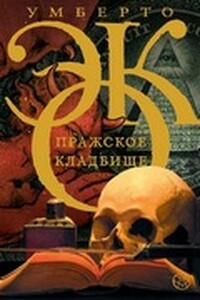Открытое произведение | страница 45
Ипполит решает оставить родину и отправиться на тщетные поиски Тесея, однако Терамен знает, что истинная причина отъезда царевича заключается не в этом, и догадывается о более сокровенных терзаниях. Что же заставляет Ипполита оставить дорогие места своего детства? Он отвечает, что они утратили былую привлекательность из — за мачехи — Федры. Федра коварна, она вся соткана из ненависти, но ее злая воля — не просто особенность характера. Есть нечто такое, что делает Федру персонажем ненавистным, совершенно враждебным, и именно это и чувствует Ипполит; есть нечто такое, что делает ее принципиально трагическим персонажем, и об этом Расин должен сказать своим зрителям, причем сказать так, чтобы этот «образ» с самого начала представал законченным, и все последующее его развитие являло собой лишь усугубление роковой необходимости. Федра коварна, потому что весь ее род проклят. Достаточно лишь заглянуть в ее родословную, чтобы зритель содрогнулся от ужаса: ее отец — Минос, мать — Пасифая. Если бы мы сказали об этом в адресном столе, фраза была бы недвусмысленно реферативной, но обращенная к тем, кто смотрит трагедию, она оказывает куда более мощное и неопределенное воздействие. Минос и Пасифая — два ужасных существа, и причины, сделавшие их ненавистными, вселяют отвращение и ужас, который охватывает при одном только их упоминании.
Минос ужасен потому, что за ним стоит ад, Пасифая ненавистна потому, что вступила в любовную связь с животным, чем и снискала себе славу. В начале трагедии Федра еще ничего собой не представляет, но вокруг нее сгущается облако отвращения и неприязни — по причине разнообразных чувств, которые вызывают одни только имена ее родителей, имена, которые окрашены легендой и отсылают к глубинам мифа. Ипполит и Терамен говорят в изысканном барочном стиле, ведут беседу изящным александрийским стихом XVII в., но упоминание этих двух мифических персонажей дает воображению новые стимулы. Итак, если бы автор ограничился суггестивным сообщением в широком смысле, весь эффект заключался бы в упоминании этих двух имен, но Расин стремится к созданию формы, предполагает возможность эстетического воздействия. Нельзя, чтобы эти два имени появились в виде случайного сообщения, недостаточно полагаться лишь на простую силу беспорядочных намеков, которые они влекут за собой. Если генеалогическая отсылка призвана к тому, чтобы наметить трагические координаты всего последующего развития, сообщение должно быть таким, чтобы намек обязательно оказал свое воздействие и, прозвучав, не растворился в игре отсылок, к которой приглашают слушателя; необходимо, чтобы, каждый раз, когда слушатель будет возвращаться к предложенной ему форме, он всегда мог находить в ней стимул для новых предположений. Когда мы впервые говорим