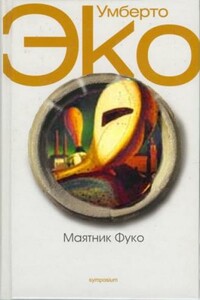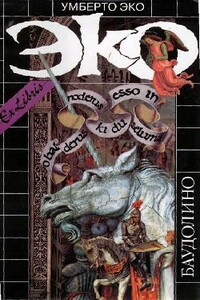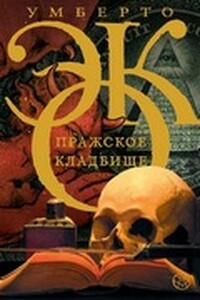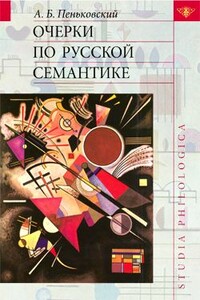Открытое произведение | страница 37
Не один Кроче описывает особенности художественного восприятия, не ища способов его объяснения. Дьюи, например, говорит «о подспудно присутствующем чувстве целого», которое пронизывает любой повседневный опыт, и поясняет, каким образом символисты превратили искусство в основное орудие выражения этой особенности нашего отношения к вещам. «Вокруг любого четко очерченного и обозначенного объекта есть область подразумеваемого, которую нельзя схватить мыслью. В рефлексии мы называем ее областью неопределенного и смутного». Однако Дьюи сознает, что неопределенное и смутное, характерные для обычного опыта — по эту сторону жестких категорий, к которым рефлексия заставляет нас прибегать — являются функцией всей ситуации в целом. («На закате солнца сумерки — приятное качество, присущее всему миру.
Это — его проявление. Оно становится неприятной особенностью только тогда, когда мешает нам четко увидеть какую — либо конкретную вещь, которую мы хотели бы рассмотреть»). Если рефлексия заставляет нас выбирать и освещать только некоторые элементы ситуации, то «бесконечная всепроникающая особенность, присущая опыту, связывает все завершенные элементы, все объекты, наличие которых мы осознаем, превращая их в единое целое». Рефлексия не полагает основания, но сама в своей способности выбирать полагается этой изначальной всепроницаемостью. Для Дьюи особенность искусства заключается как раз в том, чтобы вызывать и усиливать «это свойство быть целым и принадлежать к более великому целому, объемлющему все и являющемуся вселенной, в которой мы живем»>3. Этот факт, который мог бы объяснить то чувство религиозного потрясения, которое охватывает нас в момент эстетического созерцания, Дьюи видит довольно ясно, по меньшей мере, так же, как Кроче, даже если и в другом философском контексте, и это является одной из самых интересных особенностей его эстетики, которая, в силу своих натуралистических оснований, на первый взгляд могла бы показаться строго позитивистской. Однако его натурализм и позитивизм все же берет начало в XIX в. и, в конечном счете, остается романтическим, так что любой его анализ, пусть даже исполненный научного пафоса, непременно достигает своей кульминации в момент потрясения, вызываемого тайной космоса (и недаром его органицизм, несмотря на влияние Дарвина, также берет начало в работах Колриджа и Гегеля, независимо от того, насколько это осознается)