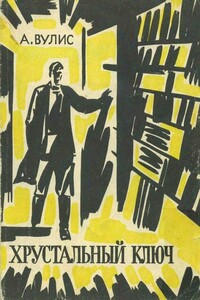Литературные зеркала | страница 84
Через минуту в разговоре возникает мотив портрета, тоже соотносимый с представлением о душе:
И вот уж снова выходит на сцену призрак, завершая парад зеркальных отражений, вызванных импровизированным спектаклем заезжих актеров.
Трагизм пьесы нарастает, восходит со ступени на ступень, с исследовательской (или даже следовательской) — на событийную. И вот — смерть Офелии:
Сказывается ли столь широкое использование зеркальной образности на композиционном строе трагедии, на ее аналитической манере? Или, пожалуй, этот вопрос лучше перевернуть, перефразировать: не обусловлена ли бессознательная (сознательная?) тяга великого драматурга к зеркалам самим замыслом: показать раздвоение личности, раскрыть противоречия эпохи?!
В любой формулировке этот вопрос вновь возвращает нас к связи между зеркалом — и этической альтернативой. Существуют ли для принца датского этические альтернативы? О, и дилемм, и альтернатив на его горизонте сколько угодно, и меч против них бессилен. Противостоять им — что рубить головы Медузе Горгоне: они вырастают снова и снова.
Такова подоплека знаменитого Гамлетова монолога, таков смысл этого гимна симметрии и проклятия ей же:
Перекличка между Кальдероном и Шекспиром явная! И воистину зеркальная! И тут и там — сон как отражение действительности в душе колеблющегося героя. И тут и там поиски смысла жизни. Дело доходит до композиционного сродства — чтоб оно стало заметней, достаточно сравнить процитированные здесь монологи Гамлета и Клотальдо…