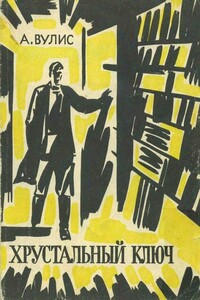Литературные зеркала | страница 41
"Проявляемое значение в духе древнеиндийской символики имеет и самое название повести "Выше стропила, плотники". Приветствуя женитьбу брата, Бу-Бу пишет ему мокрым обмылком на зеркале в ванной следующие строки из "Эпиталамы" Сапфо: "Выше стропила, плотники! Входит жених, подобный Арею, выше самых высоких мужей". Начнем с зеркала, на котором написала эти слова Бу-Бу: в Древней Индии оно являлось основным атрибутом ведической церемонии брака…"
Появление зеркала на переломном этапе человеческого бытия — факт достаточно типичный в сфере народных верований и традиций. Зеркало с давних пор (и по сей день) наделяется в социальном сознании свойством причастности к необычному. Оно служит окном в мир праздничного — и, более того, сверхъестественного. Как пишет Вальтер Скотт в "Зеркале тетушки Маргарет": "Для того чтобы вы знали, что такое чувство сверхъестественного, вы должны ощутить тот едва уловимый трепет, который охватывает вас, когда вы слушаете какую-нибудь страшную историю о действительном происшествии и когда рассказчик, предупредивший, что сам он, вообще-то говоря, не верит разным бредням, тем не менее предлагает нашему вниманию именно эту историю, а не какую-нибудь другую, потому что она необыкновенна и в ней есть нечто такое, что заставляет задуматься. И вот еще один признак — когда рассказ доходит до высшего напряжения, вам бывает трудно заставить себя оглянуться и осмотреть все вокруг. И третий — когда потом остаешься одна у себя в комнате, стараешься не заглядывать в зеркало".
Давайте проследим генезис этого пиетета, этого восхищения, преклонения или страха перед зеркалом.
Мне отнюдь не кажется абсурдной гипотеза о причастности зеркала к самому революционному процессу социальной истории (протекавшему, правда, эволюционно) — становлению мозга как субстрата идей. У истоков абстрактного мышления, как озеро в начале горной реки, бок о бок с другими озерами лежит отражение. На зеркальной поверхности "озера" веками накапливаются, накладываются друг на друга, невидимо для глаза, "заметки" развивающегося ума, сопоставляя которые древний человек научается многому.
Прежде всего, вероятно, удивляться: находить в привычном непривычное, в обычном — необычное, в броуновском движении — частицу. Вряд ли возникший на глада воды лик — возникший ниоткуда, никак не подтверждаемый другими чувствами: ни обонянием, ни осязанием, ни слухом, долго оставляет первобытного исследователя равнодушным. Со временем, надо думать, появляются реакции, которые современный карикатурист выразит символически так: на четвереньках, "на карачках" мохнатый индивид приветствует отвисшей челюстью или разинутой пастью самого себя. Знатоки литературоведческих теорий очертят ситуацию при помощи термина "остранение": ведь и впрямь, с точки зрения темного новичка, отражение придает действительности сильный отстраняющий акцент. Словом, повторяю: по-моему, древний человек при виде себя в зеркале начал с того, что сильно удивился.