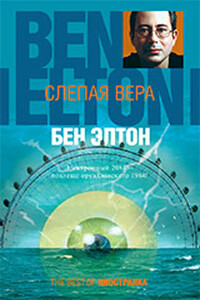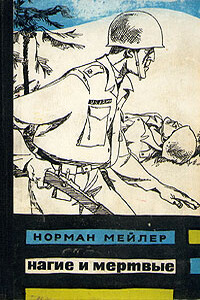Изжитие демиургынизма | страница 35
Раздумья вернули к своей картине "Данилово поле"… Мозг всерлил все тот же не-разрешимый вопрос: "Куда уйдет пшеница с этого поля?.. И на кого падет слава за нее?.." От самого пахаря то и другое ускользнет. Он — тот же "раб-отник". Занозой впивались в раздумья и другие "якорные" слова. И среди них коренное — необремененность. И ровно ключик от потайного ларца попал в руки, высказалось в себе: "Механизатор — вот почва необремененности. Он — безамбарный беззаботник, опора демиургынов".
Отстранясь от картины "Данилово поле", разложил перед собой листы с наброска-ми другой начатой им картины, названный этим самым словом — "Механизатор". На ней поле, окаймленное лесом. Тарапуня на тракторе. Он же, усмешливый, стоит на пашне, в раздумьях, словно на дороге пеќрепутной: куда вот лучше свернуть?.. Штриховые набро-ски головы, торќса, рук. Глаза, ни на кого глядеть не хотящие. И во всем этом одно поня-тие: механизатор вот — не пахарь-крестьянин. И с какой-то горечью проговорилось вслух: "Основная сила "раб-отникового общества…" И тут же другой выспрос себя: "А вот как эту силу осознать? И для чеќго она, и для кого?.." В этих выспросах крылась ущербность колхозного мира. И есть ли у него творящая сила? Может ли быть силой необремененный безамбарник. Сила Святой Руси — земля и радетель ее муќжик-крестьянин. С умалением его отемняется жизнь и всего остального люда. Русь во множестве ее племен исходит от зем-ли.
Дмитрий Данилович, сотворитель "Данилова поля", был художнику ясен и поня-тен. А вот Тарапуня — Леонид Алексеич Смирнов, так и оставался все еще загадкой. В нем как бы спорило сегодняшнее время и со вчерашним и завтрашним днем. Что-то входило в него мятежностью и от старухи Марфы Ручейной, от Сергухи Необремененного и от Дмитрия Даниловича. От каждого по-своему бралось и оседало в нем.
Покойный Данило Игнатьич, первый председатель моховского колхоза, в озорном парне, прозванном Тарапуней, разглядел дар крестьянина. Но тут же подметил и зачаток "раб-отника", назвав это по-своему: ничейник. Урезонивать парня не пытался. Смотрел на его выходки как на неизбежное прохождение через человека павших на мужика недугов. Рассуждал: "непережеванного не проглотишь, а коли не проглотишь, то и не насытишься". Тарапуня все это понемножку пережевывал и проглаќтывал. И, похоже — насыщался… Чем-то вот был сродни Василию Терќкину, как бы уже при теперешнем его времени, в мирной жизни попавќшем в окружение. И, поди угадай — где и кто враг, и где и кто свой? Парню и приходится без надлежащего прицелу второпях выстреливать. С Марфой Ручейной роднил Тарапуню дух незащищенности. Он, как и она, чаще других попадал под колесо демиургыновой телеги. Душа мирская — вот что всегда единит людей. И какая же она на Руси единая при всей своей разности… С Тарапуней и Марфой Ручейной сливался Антон Воќрона в поисках своего места в отцовско-дедовском пределе. Никому из них ныне не быть еще в милости. Им дано страдать как бунтарям в поисках правды во Христе. Художнику и хотелось сложить серию портреќтов таких людей, своего рода изгоев деревенского мира. И вместе с тем через них предугадать пути будущих поколений. Жизнь их оставит во внуках и правнуках. Но как вот узрит — что оставит и что не вживется?