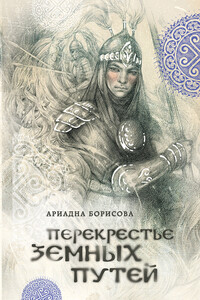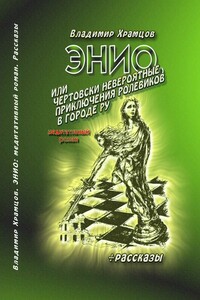Богатырские хроники | страница 46
Трудно на коне по прямой ехать, еще трудней, чем пешему. Но еду. Еду и еду. Деревни какие-то бессмысленные да леса, и знаков никаких нет. Но Упирь не спрашиваю: злится Упирь на глупость. А, чувствую, есть тут моя вина какая-то. Долго ехал, пока в Ладогу-озеро не уперся. Плюнул со злости. Нет дальше пути ни пешего, ни конного. Челн долбить, что ли? Есть и острова на Ладоге-озере, а может, в воде разгадка меня ждет? Хожу, как кот вокруг сметаны, по кромке воды. Челн долбить — так какой же челн нужен, чтобы с конем Ладогу переехать? А без коня — на что я за Ладогой годен и что с конем моим станется, покуда я скитаться буду?
Понял: зимы надо ждать, покуда лед прочный станет. А уж осень была, так что месяца два мне перебиться оставалось. Покуда к морю Варяжскому съездил, я к тому времени уж приспособился с морями говорить. В каждом живет матерь морская, норовистая, и нет правил никаких постоянных, как подходить к ней.
Вышел на моря берег, Силу напряг и спрашиваю:
— Ответь мне, матерь морская, отчего не открывается мне загадка, живу которой ради? Отчего ягиные косточки дорогу мне преграждают?
Молчит матерь морская, но выбрасывают мне волны на берег игрушку детскую — куклу грубую, деревянную. Не разгадал я загадки, но куклу с собой взял и обратно поехал.
Стал лед на Ладоге-озере, поднабрал я корма для коня и поехал осторожно.
Ох, Ладога-озеро, берегов не видно, одна пустыня белая, тоскливая. Где лед прозрачный — там видно, как водяной со дна пузыри тонкие пускает. И нет нигде ответа. Но екнуло вдруг мое сердце, потому что точно на север остров обозначился. Понял я: недаром по льду спотыкался.
И точно — на берегу сруб стоит грубый. На пороге женщина, годов сорока. Кланяется мне в пояс:
— Здравствуй, Святогор. И тебе приют будет, и коню твоему пропитание, усталому.
— Здравствуй, — говорю. — Силу на тебе чувствую. А уважаю я Силу. Ты, видно, много обо мне уж знаешь, потому что велика Сила твоя, а я по дороге не заслонялся. Знаешь, зачем я приехал.
— Да в дом зайди, — говорит, — продрог.
Сидим. Собрала она на стол. Налила щей, миску мне протянула, а потом дрогнула у нее рука, и разбилась миска, и новую мне налила, и извинилась. Похлебка пустая, травяная, да горячая, и то дело. Но странно мне показалось, что миска у нее из рук прыгнула.
— Рада, — говорит, — зовут меня.
— Рада! — говорю. — Не поленица ли ты, девица-богатырь, что всех удивляла, а потом скрылась куда-то?
Кивнула: — я. Потом помолчала; спрашивает: