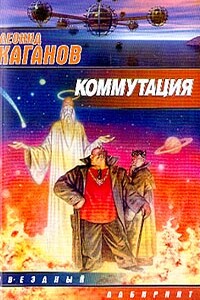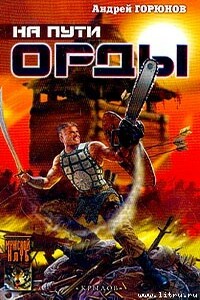Станция Мортуис | страница 19
Очутившись наконец в прихожей, я окоченевшей от напряжения рукой почти бесшумно закрыл дверь, уже совершенно бессильно прислонился к ней и тыльной стороной кожаной перчатки вытер со лба мелкие крапинки ледяного пота. Так, без намека на движение и с подгибающими коленями, простоял я несколько бесконечных минут, но всему, в том числе и страху, установлен некий естественный предел - блуждавшая по телу нервная дрожь постепенно унялась, улеглось и смятение мыслей, уверенность вернулась в непослушные, одеревеневшие ноги, пустой черный портфель перестал казаться неподъемной ношей. Вот в эти секунды и оборвалась окончательно тугая и незримая нить преемственности с белизной раннего детства, ее милая непосредственность мигом оказалась погребенной под наплывом грядущих лет-невидимок и я повзрослел на целое дряхлое столетие. И когда больше по необычности обстоятельств, чем по необходимости, я, по-кошачьи крадучись, перешел в гостиную, то это был уже не известный моим друзьям неизменный Я, а совсем другой человек (а может я ненароком и сейчас ввожу себя в заблуждение?), человек впервые в жизни тайно и без всякого на то права переступивший порог чужой квартиры и, вдобавок, преступно убежденный в глубокой правоте своих действий.
В гостиной меня обступил сплошной мрак, глаза не успели пообвыкнуть и я сразу же стукнулся коленом о что-то твердое и острое. Я уже упоминал, что передвигался осторожно, крадучись, поэтому и ударился о препятствие не с размаху, но искры все же посыпались у меня из глаз. Вот точно так же посыпались у меня искры из глаз лет двадцать спустя в Маниле, на дипломатическом приеме в честь возглавляемой мною правительственной делегации. Ужас и досада блеснули в глазах худого, смуглого и узкоглазого, облаченного в черную фрачную пару филиппинца, шефа протокольного отдела их МИД-а, когда направляясь легким, спортивным шагом, с дружелюбной улыбкой на лице (таков уж был мой стиль) к премьер-министру Филиппин и изготовившись к теплому, длительному рукопожатию, я ненароком ударился коленом об угол кем-то неосторожно развернутого и забытого парадного стула. Стул был сделан из какого-то весьма твердого дерева, - сандалового, красного или черного, не знаю, я не знаток ботаники, - но, в общем, из экзотического и, главное, смахивавшего на железобетон материала, и от внезапного шока у меня чуть было не вырвался вопль. Но довлевшее над всем и всеми чувство ответственности вынудило меня ограничиться еле заметным придыханием. Даже невнятное и глухое чертыхание, - от которого я в гостиной так и не удержался, - было бы там, на приеме, недопустимо. Пришлось стерпеть, стиснув зубы превозмочь боль, сохранить на лице дежурную улыбку, ничего не поделаешь, я представлял великую державу - Советский Союз - и это обязывало. Глаза шефа протокола постепенно успокоились и вскоре приняли прежнее, тревожно-настороженное выражение. Ох, какое пекло, какие бирюза и лазурь, как нелегко выносить тяжесть жарко обволакивающего тебя строгого темного костюма на борту роскошного белого теплохода, что стоит себе на якоре близ гавани, но в стороне от нее; снующие по периметру заливчика полицейские катера, суетящиеся на палубе официальные лица вперемежку с официантами, а перед открытием по восточному благоуханного банкета - торжественный церемониал подписания совместных документов, открывающих новые рубежи двустороннего сотрудничества (потом в газете прочел: "в Маниле было парафировано соглашение... с советской стороны в переговорах принимали участие..."), море цветов в Манильском аэропорту, а спустя несколько долгих часов - родная прохлада Внуково-2. Но всего этого пока, разумеется, не было и быть не могло, и я, скрипя зубами и чертыхаясь, доковылял до ближайшего окна и приник разгоряченным лбом к прохладному стеклу, оставляя на нем невидимую испарину. Сквозь окно в душную, мрачную комнату проникала лишь кромешная уличная мгла.