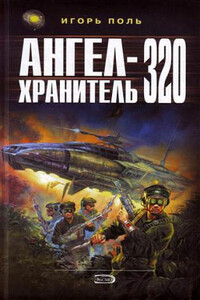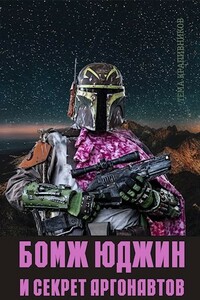Несущий свободу | страница 52
– Эй! – прокричала она в самое ухо. – Смена! Уходим! Слышишь?
Он выплюнул воду в досаде – пропустил волну.
– Слышу. Не ори.
Камень выскользнул из-под ног. Волна мягко подтолкнула в спину. Мир стал мутно-зеленым. Белые пузырьки перед глазами. В ушах тягучее «бом-бом». Руки, сведенные за спину, не слушались. Он упал носом вниз, прямо в играющие бликами донные камни. Чокнутая Чаммер рвала и терзала его тело. Белая игла в мозгу – дышать! вместо воздуха в горле упругая вата. Он закашлялся, пытаясь выплюнуть ее, но вата обдирала глотку, упрямо пролезая все глубже.
Камни на дне нежны, как пух. Щека скользнула по зеленой бахроме.
Солнце обожгло глаза. Он втянул в себя воздух и захлебнулся кашлем. Едва успел повернуть голову – его стошнило на горячую гальку.
– Очнулся? Вот и ладно!
Хенрик непонимающе смотрел на склонившегося над ним доктора. Вернулись звуки. Стали слышны команды и громкий плеск – рота по-прежнему вычерпывала море. Они с Чаммер лежали рядышком, чинные, как спеленатые младенцы. Мокрые насквозь и жалкие. Одежда парила под солнцем. Доктор оставил их, чтобы привести в чувство коренастого новобранца, лежащего по соседству. Кажется, кого-то из третьего взвода.
– Меня отчислили? – спросил Хенрик.
– Чуть не утопил меня, болван! – хрипло ответила Чаммер, стараясь выглядеть сердитой.
В ее голосе совершенно не было злости.
– Не могла вырасти поменьше, дылда, – парировал он.
Инструктор заслонил солнце:
– Эй, вам тут что – пляж? Пулей в строй!
Чаммер умчалась – только ее и видели.
Хенрик тяжело поднялся. Его еще подташнивало. Кружилась голова.
– Устал, сынок?
– Никак нет, инструктор, – пробормотал он, с трудом обретая равновесие.
– Я б такую девку с утра до ночи на руках таскал! – крикнул егерь вслед, не то издеваясь над ним, не то выражая одобрение.
– Непременно учту, когда дослужусь до фельдфебеля, – пробурчал Хенрик себе под нос.
Сгорбившись, Грета сидела на продавленной кушетке, крепко стиснув ладони коленями, не замечая катящихся по щекам слез. «Господи, знаю, я недостойна. Но ты ведь слышишь меня, да? Ты все слышишь, все видишь. Если ты позволяешь нам делать то, что мы делаем, значит, это тебе зачем-то нужно, верно? И значит, мы не такие уж мерзавцы, ведь так? Прошу тебя, дай ему выкарабкаться, – шептала она тихо. – Он достаточно натерпелся, оставь его в покое. На кой он тебе сдался, господи, я ведь сто крат лучше, я тебе пригожусь. Хочешь, я буду мыть твои ноги? Буду ублажать тебя, мне ведь не привыкать. Только не убивай его, сукин ты сын. Видишь – я даже молиться как следует не умею; но ты все равно знаешь, что я хочу тебе сказать. Ответь мне, не молчи. Услышь меня…» Ее мир рушился. Привычка убеждать себя в том, что любое разрушение – основа созидания, не срабатывала. Ничего не выстраивалось из этой холодной пустоты, слова о величии и долге оставались словами, внутри образовалась чернильная тьма; только где-то там, впереди, на самой границе зрения, сияла удаляющаяся точка.