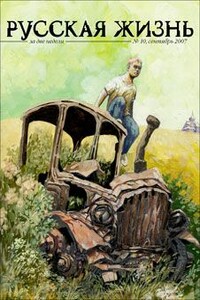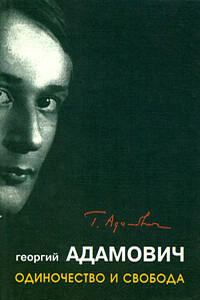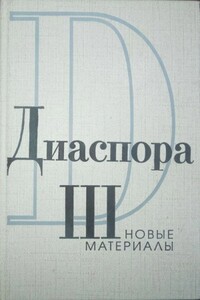Литературные беседы. Книга вторая ("Звено": 1926-1928) | страница 12
Мир не поддается больше истолкованию и осмысливанию. Будто побежденный художник уступает позиции, уходит внутрь себя. И внутри себя, «там, внутри» — как переводили у нас название одной из метерлинковских драм — он ищет отражения той мировой путаницы, внешние формы которой ему охватить не удается. Он суживает план, лишает его исторического размаха, распространения в пространстве и времени, но основное хранит. Он сдает позиции по горизонталям, но не по вертикалям, т.е. уступает ширину замысла, но глубиной и высотой дорожит. Отсюда мнимая бедность нашей литературы по сравнению с той, которую называют «классической» – ясной, величавой, многоохватной. Что же делать! Ясности и стройности мы теперь не ждем, а если бы и ждали, то не дождались бы. Надтреснут мир, и в трещины врывается нечто неуловимое и непреодолимое, но во всяком случае столь важное, что если современный художник его, этого «нечто», не чувствует, то ничего он, кроме плоских очертаний не создаст. Как почти всегда, говоря о нашей литературе, хочется вспомнить Гоголя. Гоголевский быт, при всей его густоте, наименее олеографичен. Вместе с Гоголем в литературу впервые вошла, как великая тема, – мировая чепуха. Впрочем, Гоголь называл ее пошлостью.
Эти краткие и немного туманные замечания мне хочется связать с новым рассказом М. Горкого «О тараканах» (сборник «Ковш»).
Размах удивительный. Это одна из самых поэтических вещей Горького и художественно, пожалуй, самая зрелая. В этих сорока страницах куда больше души и ума, чем в огромном «Деле Артамоновых». И как пред этой полутрагической безделушкой меркнет та «широкая бытовая картина»!
Лежит на берегу озера человек. «Почему-то ясно, что этот человек мертв.
– Кто это?
– А не видишь?
– Что с ним?
– Известно, что – помер.
– Отчего?
– На ходу.
– Убит?
– Его спроси.
– А кто таков?
– Нездешний».
Дальше следует повествование об «умершем на ходу человеке». Это Платон Еремин, часовых дел подмастерье.
Детство. Отец Платона, вахмистр, – драчун и деспот. Мальчик забит, робок, но шаловлив. То прижжет каленым железом язык снегирю – любимцу отца, то вымажет патокой портрет царя. «Черт дурацкий!» – ругается вахмистр.
Он отдает сына на выучку часовщику Ананию. Ананий занят не столько своим ремеслом, сколько рассуждениями о высших материях: что есть факт, где в факте логика? Впрочем, вежлив и обходителен: Платон подрастает, работает исправно, но нет-нет да и вспомнит прежние забавы. Напоил раз уток водкой, утки подохли.