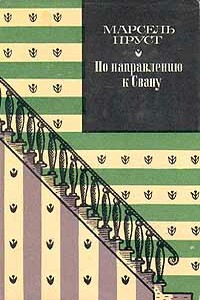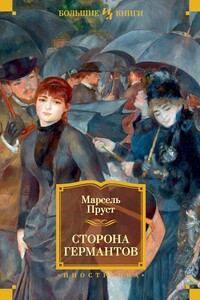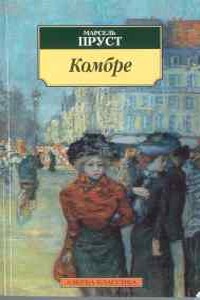Против Сент-Бёва | страница 68
Вставить куда-нибудь: Бальзак похож на тех посетителей великосветских салонов, которые, услышав, как кто-то употребляет титул «принц», говоря о герцоге д'Омальском, но именует герцогиню «госпожой герцогиней» и кладет цилиндр прямо на пол, еще до того, как им растолкуют, что «принцем» надо титуловать и графа Парижского, и принца де Жуанвиля, и герцога Шартрского, и до того, как обучили прочим светским условностям, спрашивают: «Почему вы называете герцога принцем? Почему говорите „госпожа герцогиня“, как это делает прислуга?» и т. д. Но стоит им узнать, что так принято, как им кажется: они всегда это знали; если же они и припомнят былое свое недоумение, то не преминут преподнести урок другим и с удовольствием разъяснят им условности высшего света, ставшие им самим известными не так давно. Их безапелляционный тон знатоков, которым без году неделя, как раз и характерен для Бальзака, когда он говорит, что принято, а что нет. Представление д'Артеза княгине де Кадиньян: «Княгиня не сделала знаменитому человеку ни одного из тех комплиментов, какими докучали ему обычно… Люди со вкусом, как княгиня, отличаются главным образом своим умением слушать… за столом д'Артез сидел рядом с княгиней. Нисколько не подражая жеманницам, разыгрывающим преувеличенную воздержанность, она ела…».
Представление Феликса де Ванденеса г-же де Морсоф: «Г-жа де Морсоф заговорила об уборке хлеба, об урожае винограда… предметах для меня совершенно чуждых. Такой поступок хозяйки дома свидетельствует обычно о незнании приличий и т. д. <…> Несколько месяцев спустя я узнал, как значительны бывают желания женщины». Тут эта категоричность по крайней мере объяснима, так как автор всего лишь констатирует принятое. Но точно с такой же категоричностью высказывает он и другое суждение: «В свете никого не интересует страдание, горе, все там — слова» — или интерпретирует: «В шесть часов герцог де Шолье прошел в кабинет к герцогу де Гранлье, который его ожидал. Послушай, Анри… (эти два герцога были на „ты“ и называли друг друга по имени — один из оттенков, изобретенных для того, чтобы подчеркнуть степень близости одних, не допуская излишней французской непринужденности со стороны других и не щадя чужого самолюбия)». Вообще же надо заметить, что, подобно литераторам неохристианам, которые в отношении литературных трудов резервируют за Церковью власть, о какой не мечтали самые суровые в вопросах ортодоксии папы, Бальзак наделяет герцогов привилегиями, которым немало подивился бы даже высоко ставивший их Сен-Симон: «Герцог окинул г-жу Камюзо тем беглым взглядом, которым вельможи определяют всю вашу сущность, а подчас и саму душу. <…>