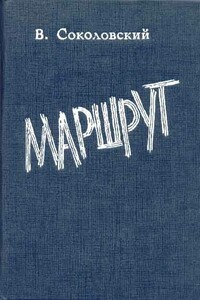Планида | страница 22
7
Загрузились. Утром к пароходу прицепили — и пошлепали. Не спеша. Там встанут, здесь пристанут. День, другой… А кормежки никакой. На третьи сутки помирать стал народ: духота, голод… А когда уж через неделю к губернской пристани причалили — половина в живых осталась. И выбросить-то мертвых не разрешают. Ох, мука смертная! Иван Чеморов другом Никифору стал, — вспоминали все, как в германскую горе мыкали. — Я, — Иван говорит, — мужик семейный, надоела мне эта чепуха — вши, окопы, — што я, железный, што ли? — пять лет на действительной отстукал, да пятый год, почитай, опять воюю, — дернул я от красных. Заберусь, думаю, бабе под подол — сыщи-ко меня! Да вот — не те, так другие прихватили. А Никифор ему про свою давнюю житуху рассказывал. Конечно, о том, что большевик и о чем прочем — ни-ни. А только когда совсем уж до места добрались, проснулся Никифор утром, толкает друг-товарища, глядь — а он уж мертвый. Уснул, сердяга. Закрыл ему глаза, поплакал, вдруг — вроде к пристани опять ткнулись. Ну, и верно: люки отдраили — выбирайтесь! Вылезли, воздуху понюхали, — трупы выгружать! Положили штабелями на подводы, сидят. Тут хлеб привезли. Жри, братва!
Отдохнули маленько, опять унтер кричит: становись! На станцию пойдем. Кое-как встали, побрели. Часа два три версты одолевали. Сзади, правда, телега шла: если кто упадет — на нее складывали. Да потом нарочно падать стали, чтобы на телегу попасть. Надоело охране такое дело. Смотрят — один упал, за ним сразу — другой. Прислонили их к стенке дома, стрельнули для порядку. Больше уж никто не падал.
На станции по вагонам, в которых и без того повернуться негде было, растолкали, заперли, продержали до утра, и — запыхтела машина — поехали! Хлеба дали по буханке, — да помаленьку жрите, а то снова дохнуть начнете. Да кого там. За сутки все прибрали. А потом опять голод начался. А там и мертвые начали объявляться. Поезду что: хох-хох! хох-хох! — стукает себе. Маленько пройдет — снова встанет. Осталось их вскоре человек двадцать из полсотни. Обезумел тут Никифор. Подполз к щелке, когда вагон на каком-то полустанке стоял, — грязный, мокрый, вшивый, — одни глаза блестят, — ни в руках, ни в ногах силы нет, — и говорит солдату, что с винтовкой вдоль путей ходил: эй, служивый! Слышь… За-ради Бога, за-ради матери твоей, али еще чего — стрель ты меня, а? Стрель, горемыку… — и забился головой об загаженный вагонный пол. Смеется солдат: ох ты, ушлый какой! Стрель ево. Да рази ж это можно? Не положено. Вот если бы ты, к примеру, побег задумал учинить — тогда бы с полным основанием. — А ты меня выпусти, — взмолился Никифор. — Выпусти да стрель — как будто я и впрямь бежать хотел. Испугался солдат: да! Выаусти я тебя, а ты — ширк, да и утек! Ох, хитрой. Пшел, стерва! — осердился и давай штыком Никифора в лоб подтыкать. Завыл Никифор от боли, отполз. А солдат, гордый своей сообразительностью, намуслил цыгарку и, подобрев, сказал: ниче, ниче! Теперя скоро…