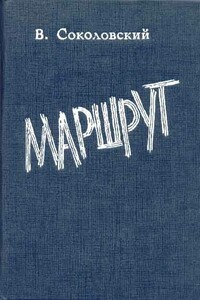Планида | страница 2
Вытащил Никифор свою солдатскую книжку, — стоит, ни жив, ни мертв. Офицерик поглядел, губами пошлепал, говорит: идем! Пошли. Привел он Никифора в какой-то дом с часовым, завел, в кабинетик затолкнул, сам — следом. Сморит Никифор: сидит за столом то ли лысый, то ли бритый штабс-капитан, пишет. Увидал их, — вежливенько так: чего изволите, господа? — Прапорщик Бурыго, — офицерик докладывает, — вот, господин штабс-капитан, пленного привел, посмотреть надо — не шпион ли? — да определить. Подскочил к нему штабс-капитан, ручку жмет, — благодарю за службу! — Рад стараться, — говорит. И ушел. Остались Никифор со штабсом вдвоем. Посмотрел на него ястребом офицер, поспрошал, — да и в кутузку. В карцер, значит. Там разберемся, мол. Отвел солдат Никифора в карцер, на замок запер. Разделся Никифор, сидит, вшей щелкает. Солдат хлеба с кипяточком принес — кайфуй, Никифор Степаныч, отдыхай с дорожки. Наган, правда, при обыске отобрали, ну да на кой он леший в камере-то? Кого им стрелять? Хорошо, что хоть фуражку оставили, повесил ее на гвоздик — вот, спокойно на душе.
Часу не прошло — вталкивают в камеру солдатика, хмыря конопатого, оборванного, глаз подбит. Сидит Никифор, помалкивает. А тот, как втолкнули его, к двери бросился, орет, кулаками стучит, лбом ее лупит. Потом угомонился. Показывает Никифору глаз свой подбитый: вот, дескать, как они к нашему брату, политическим. Глазом Никифор не ведет. Кто, говорит, и политический, а кто и за просто так, вроде как карантин после плену, потому как у пленных, ученые люди бают, вошь сильно едучая. Ежли после плену карантин, как мне, не устроить — повыест эта вша всех начисто. Ни один человек, кроме пленного, супротив этой вши не устоит — враз счахнет. Притих конопатый, в угол забился. А Никифор знай свою линию гнет. Наше, толкует, дело солдатское, знай стреляй-коли, смутьянов искореняй, врагов изничтожай, господа офицеры знают, что велят, — давай, поворачивайся!
Потом хвастаться стал. Я, говорит, унтер-офицером был, это тебе, быдло, не шиш с маслом, всю роту в руках держал, со мною сами ротный их благородие поручик Кругловский за ручку здороваться изволили. А ты, хамская харя, на них, благодетелей-то, зло замыслил, да еще меня политическим обозвал, — ну, берегись, тля конопатая. С нар спускается, и — хлобысь! — между глаз. Тот заорал по-дурному, к двери бросился, опять стучаться стал. Глазок — щелк! Замок скрежетнул, вошел в камеру усатый подпоручик: что за шум? — Так и так, вашбродь, сусед шумный попался: политическим меня лает, на бунт подговаривает. Сгреб подпоручик конопатого за шкирку, выбросил в коридор. — А ты, — Никифору, — посиди, — говорит. Ушел. Ухмыльнулся Никифор, фуражечку под голову положил, и — охо-хо! — давно под крышей не спал, — уснул. Да крепко так.