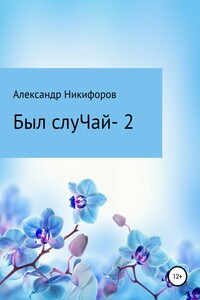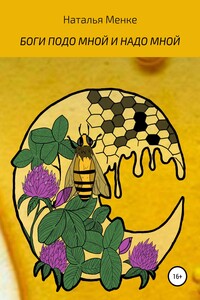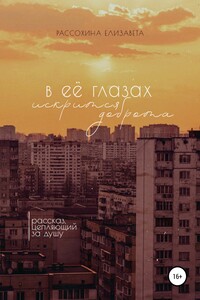Культура шрамов | страница 78
Я-то думал, что явится какой-нибудь один трагический тип, недоносок с неуловимым выражением лица, но уже на первом сеансе оказалось восемь человек; позже количество посетителей доходило иногда до одиннадцати — двенадцати. Обычно численность приходивших колебалась, но наблюдался и постоянный состав, около полудюжины человек — если так можно выразиться, прочный костяк группы.
Еще одна унылая встреча… с твоим-то унылым имечком, Сэд… Так обычно острили неудачники из административного здания, где проходили эти сеансы. Исследователи считались как бы персонами нон грата: полноценные больничные психологи, расхаживавшие по викторианским коридорам Душилища, щелкая каблуками, сторонились нас как академических выскочек, а нервные психотерапевты, казалось, жались к стенам, шепча друг другу: это мой остров… Но я был выше всего этого и стоял в стороне, не давая им времени и возможности поупражняться в своих дурных шутках. Все это я уже слышал раньше, вдобавок они просто ревновали — ревновали хотя бы потому, что когда я входил в аудиторию, где толпилась моя группа (у всех в руках одинаковые полистироловые стаканчики с обжигающим кофе, у всех на лицах — одинаковое глуповатое выражение), то я целиком завладевал их вниманием и по крайней мере на 75 % — их благоговейным уважением. Чем не могли похвастаться эти бумагомаратели, эти тянитолкаи.
Обстановка каждую неделю была примерно одинаковой. Новички должны были представиться остальным членам группы. После моих благодушно-поощрительных слов они поднимались со стула и рассказывали, почему попали сюда. Обычная групповая рутина — такое практикуется по всей стране, от окраин до окраин, от «Анонимных алкоголиков» до групп, создаваемых для родственников жертв автокатастроф. Здравствуйте, меня зовут Суз, и мне кажется, я подвергалась насилию. На самом деле обычно все это было очень трогательно, и, как только новый член группы, выговорившись, садился на место, ему тут же пожимал руку или похлопывал его по плечу кто-то из шестерки «прочного костяка» и что-нибудь спрашивал — но не о том, правда ли все рассказанное, боже упаси, а просто — о самочувствии сейчас и тогда. Потом, когда со всем этим было покончено, беседа всегда налаживалась, и под моим чутким руководством группа обсуждала темы вечера, например: «Матери и дочери»; «Отцы и сыновья: Что делать с восстановленными воспоминаниями»; «Что лучше — простить или рассказать?»; «Как жить с наследием насилия» — и, наконец, неизменно популярная тема: «Неужели я тоже такой?»