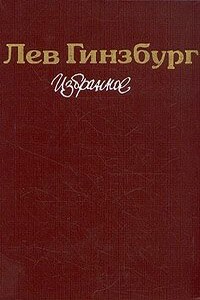Бездна | страница 52
На вопрос, что было труднее — нагружать или разгружать «машину», он, поняв мой вопрос «производственно» и почти обидевшись на меня, отвечает:
— Не знаете, что ли? Конечно, разгружать! Они (то есть погрузчики) в чистом ходили: погрузили — и до свидания! Грузить каждый может, а выгружать попробуй, в грязи весь…
При этом службу на душегубке он считает «смягчающим обстоятельством»:
— В Симферополе определяли, кто на что способен. Увидели, что я на расстрел не способный, — и сразу меня на душегубку…
О немцах он, как и большинство его сослуживцев, отзывается с ненавистью, с яростью.
Здесь, конечно, и обида на то, что «немцы втянули», но главным образом на их спесь и заносчивость.
— Они нас ненавидели, а я их ненавидел…
— За что же?
— Они нас за то, что мы — русские, а я их за то, что они — фашисты!
Тут вновь в нем пробуждается патетика, он сейчас — бывший ветфельдшер отдельного батальона связи, участник боев за Берлин, человек из той характеристики: «Проявил себя храбрым, мужественным…»
Для него в этом нет никакого противоречия, так же как в словах характеристики почти нет преувеличения. В январе 1943 года он отстал от немцев, в Цимлянской его настиг фронт, он попал в Особый отдел и там, по его словам, сообщил о своей службе на душегубке. Однако, как он рассказывает, «особист» от этой темы отмахивался, поверить не мог: «Ты мне чепуху городить брось, рассказывай, с каким заданием прибыл!» Кончилось же все дело тем, что его направили в штрафбат «до первой крови», он был ранен, восстановлен в звании старшего лейтенанта и действительно дошел до Берлина.
Сейчас он рассказывает о том, как «зубами» перегрызал пять рядов немецкой проволоки и как, оказавшись в Германии, искал своих начальников — Кристмана, Герца и шоферов душегубки Ганса и Фрица: «Знал бы, где они, порезал бы их, гадов, в Германии!» Он почти кричит, рубит рукой воздух и, хитро прищурив глазок, рассуждает, как бы ему надо было тогда действовать, чтобы «помочь следствию» в розыске немцев. При этом он, сетуя на свою тогдашнюю недогадливость, стучит пальцем по голове, извлекая какой-то деревянный звук.
На немцев ему есть за что обижаться. Он с увлечением их чернит, говорит об их коварстве и заносчивости.
Я спрашиваю, объясняли ли ему немцы цели той или иной операции.
— Никогда! Об этим они именно скрывали, для чего и почему, не объясняли. В конце концов решил я: уйду от их к чертовой бабушке!..
Потом он снова стушевывается — начинается разгозор «за ейскую операцию».