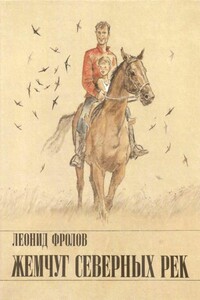Норки, Клава и 7"А" | страница 37
— Живи, Павел Евграфович, в свое удовольствие, — сказал технорук.
И поселился Графыч в этом дощатом теремке. Работа была нехитрая — уедут лесорубы к ночи в поселок, оставят бензопилы и трактора — вот и присматривай, чтобы какой лихой человек не набедокурил. Короче, определился Графыч в сторожа.
Днем промышлял рыбалкой и охотой, а посреди ночи выходил из своего домика и слушал, чем лес живет. Какая птица в родные края вернулась, какой зверь к человеческому жилью идет. Одинокому человеку другой жизни и не надо.
Лесорубы — народ деловой. Днем окрест ревут трактора, завывают бензопилы, с тяжелым уханьем падают вековые сосны. Днем зверь и птица сторонятся лесной делянки. А к вечеру вроде и не было великого шума, И утки шебуршат на ламбушке под самым окном Графыча, и лосиха с лосенком пройдет по бугру возле его домика.
Неподалеку от сторожки из ламбушки выбегал ручеек. И здесь, на соснах, Графыч насмотрел глухариный ток. Добыл глухаря, потом другого. Хотел технорука предупредить, чтобы лес на току не валили, мол, глухари это место облюбовали. Да не успел, глядь, а уж лесу-то не стало. Одна сосна высоченная осталась. Вальщик пожалел ее, уж больно семенник хороший. С нее ветер семена на полкилометра отнесет, и новый лес поднимется.
Так и осталась стоять та сосна — такая же одинокая, как сам Графыч.
Глухари, когда не стало леса, подались в другие куртины. И только один старый петух не захотел покидать место своего игрища. Видно, не раз по весне этот старый боец выходил здесь грудь в грудь на честный бой со своим соперником.
Каждый вечер он прилетал на эту одинокую сосну. Вначале, застыв на фоне зари, прислушивался. Затем, осмелев, проходил по суку и начинал щипать хвою. Аза полчаса до самых глубоких сумерек майской ночи, он расправлял веером хвост и, закинув к небу свою бородатую голову, словно колдун, начинал выговаривать глухие заклинания.
В такие минуты Графыч садился на пороге и завороженно смотрел на глухаря. Хотя до птицы было довольно далеко, старику казалось, что он слышит каждое колено этой древней песни, не похожей ни на что другое.
Закончив свой недолгий вечерний концерт, глухарь втягивал голову в плечи и замирал. Боясь потревожить сон птицы нечаянным стуком, старик неслышно прикрывал за собой дверь сторожки и ложился спать. Но сон его, как и сон древней птицы, был коротким.
С первым проблеском рассвета старый глухарь вновь преображался. Он пел. Одна песня сменяла другую, и, казалось, будто «скирканье» и «точенье» глухаря рассеивали серые сумерки, пробивая дорогу алой заре и первому лучу солнца.