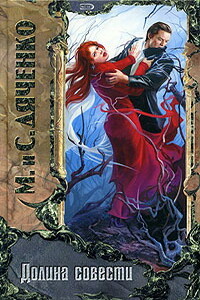День Литературы, 2008 № 11 (147) | страница 4
Трудную и тяжёлую жизнь прожила моя матушка, но радостную и достойную.
Были времена послевоенные, когда мы ютились в одной комнате на улице Промышленной: и папа с мамой, и трое детей, и бабушка, и сестра папина тетя Маня, которую он вывез из голодающей Украины. Ни в каком сюжете Петрушевской такого не сыщешь. Но ведь выжили, и всё было наше – и Онега, и улицы, и дворы.
Сейчас, может, и нет таких коммуналок, но и строек настоящих, для простого люда, нет, общения нет, вечером на улицу ребёнка опасно выпустить.
Похоронили маму на Сулажгоре, которую когда-то штурмовали советские части от белофиннов, на взгорье, рядом с папой. И весь Петрозаводск у них на виду.
Мамочка родная, прости меня за всё...
Вечная тебе память…
Елена Сойни НА СМЕРТЬ МАМЫ
Синичка, приспусти свои крыла,
уткни свой клюв в кору на ветке голой
и помолчи. Она не умерла,
а тоже стала птицей в мире горнем.
Такой любви нам больше не сыскать,
и в нежности её прикосновенья
мы ощутили Божью благодать
и материнское благословенье.
Владимир Ермаков БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ
В пространстве постмодерна любая пафосная идея отражается как пародия, и только скандал получает резонанс. Попытка прямого словесного воздействия на общество в наши дни заведомо обречена на неудачу. Поражение Солженицына в правах пророка выявило масштаб системных изменений. Поэт в России больше не Поэт, не говоря уж о прозаиках. Что-то не так с писателем и что-то не то с читателем.
Что не так с писателем? Да всё не так. Нельзя сказать, что это странное ремесло всегда пользовалось безусловным уважением. Между сакральным статусом писца в Египте и Шумере и коммерческим успехом современного борзописца дистанция огромного размера. Просиявшая славой в Золотом веке, харизма писателя с тех пор потускнела и померкла. В наше время писатель как фигура речи утратил право первородства слова. Причин тому много – как общего порядка, так и частного. Русская литература XX века – особый случай в мировой культуре. Радикальное разделение словесности на предписанную и запрещённую породило шизофренический дискурс общественного сознания. Всё разумное, а также доброе и вечное, оказалось (вопреки Гегелю) не действительно, а действительное выходило глупо, зло и конъюнктурно. Речь не о личностях и не о шедеврах, отстоявших честь русского писателя и составивших славу нашей новой классики (без сомнительного титула советской). Исключительные меры и исключения из Союза лишь подтверждали общее правило: хочешь быть первым – будь как все. За вычетом героев и гениев, прописанных в нашем менталитете отдельной строкой, литература скомпрометирована в общественном мнении как любовница власти и содержанка государства. Всякое с ней было: бессердечное усердие 30-х, беззаветное служение 40-х, обескровленный конформизм 50-х, близорукий оптимизм 60-х, дешёвый цинизм 70-х, судорожный энтузиазм 80-х, добросовестный разврат 90-х, хищный прагматизм нулевых лет нового века... Ничто ей не забыто и не прощено.