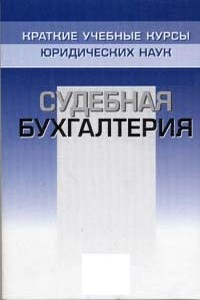Драматургия кино: очерки по теории и практике киносценария | страница 63
При демонстрации картины приходилось постоянно наблюдать, как появление поезда с молодежью, распевающей «Марш Буденного», вызывало шумные аплодисменты Вот что значит умело подготовить событие как событие «необычайное», событие значительное.
Итак, простое, обычное в сюжете, в произведении искусства может и должно стать значительным, «необычайным», интересным.
Для объяснения того, почему обыкновенные вещи могут выглядеть в произведении искусства «новыми», «необычайными», «значительными», формализм ввел словечко «остранение» (от слова «странный»), разумея под «остранением» необычную точку зрения на вещь, безотносительно к идейному содержанию. На самом деле следует говорить не об «остранении», а об осмыслении характеров, событий, обстановки, или с точки зрения героя (раскрывая его внутренний мир, характеризуя его), или с точки зрения автора (раскрывая его мировоззрение или — более узко — идею, заложенную в произведении). Глубоко осмысливая, умело и ярко изображая избранный им уголок действительности, художник-реалист может сделать в своем сюжете значительными самые незначительные вещи и «необычайными» самые обычные.
Развивая и уточняя изложенные выше мысли Н. Зархи, следует указать, что те события, которые были выше определены как абсолютно или объективно «необычайные» сами по себе, еще недостаточны для формирования сюжета художественного произведения. Они должны войти в связь с судьбами героев, так или иначе определять эти судьбы. «Необычайные» сами по себе, «необычайные» абсолютно и объективно, они еще должны стать «необычайными» для героев, «необычайными» относительно и субъективно, должны стать сюжетно формирующими, «разрушающими», «пересекающими», «отклоняющими» реальную биографию героев.
Только отражаясь в их сознании, определяя их поведение, влияя на их судьбу, эти объективно «необычайные» обстоятельства могут войти в сюжетно крепкую связь с героями произведения.
К сожалению, в кино об этом часто забывают. В качестве примера такой забывчивости можно привести работы Вс. Пудовкина «Конец Санк-Петербурга» и «Дезертир». В обеих этих картинах режиссер блеснул развертыванием массовых сцен, манифестаций, демонстрацией боев и в обеих этих картинах скомкал сюжет, судьбу героев. Он не использовал даже возможности в немногих моментах, где появляются герои, остановиться на них несколько более внимательно, чтобы показать воздействие на них событий, перемену, происходящую или происшедшую в них. В этом отношении очень показательна в картине «Дезертир» сцена демонстрации в Москве. В этой сцене больше всего показана самая демонстрация, — показана очень свежо и хорошо; замечательно и волнующе сделан момент обращения к демонстрантам делегатки-немки. Что же касается главного героя, то на нем режиссер не останавливается, показывает его мельком и ничего не сообщает о его переживаниях. Ясно, мол, что перерождается, — в такой обстановке, в такой волнующей атмосфере он не может не переродиться; чего же на нем особенно останавливаться? От такого более чем хладнокровного отношения к сюжету вещи, к линии ее единого действия можно только предостеречь.