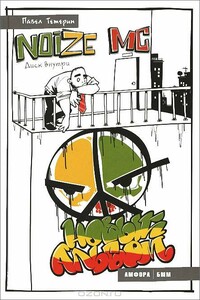Яблоко. Рассказы о людях из «Багрового лепестка» | страница 48
Все, о чем ты меня попросишь.
Он заставляет себя открыть глаза. Мужчине, миновавшему середину жизни, не к лицу предаваться нежным воспоминаниям о шлюхе. Он человек респектабельный, не какой-нибудь богемный распутник. Праздные друзья его юности разбрелись кто куда, ибо в товарищи человеку его положения уже не годились. Он — столп общества, да, столп. Рука Уильяма опускается к брюкам, не то потирая восставший член, не то пытаясь принудить его опуститься — тут он не уверен. Как жадна она была до него! — если можно было верить ее словам. А верить женщине нельзя. Мир — это липкая мешанина измен.
Агнес. Если уж он предается любовным помыслам, так посвящать их следует ей. Она была его цветочком, его маленькой драгоценностью. Невинная, неиспорченная. Ни единый мужчина не прикасался до него к ее нагому телу. Она лежала с ним рядом, под ним, косная и холодная, точно кусок мяса, которое остудили, чтобы вырезать из него фигурку женщины. Ему вообще не следовало прикасаться к ней. Зачем он к ней прикасался? Да затем, что она была самой сладкой на свете игрушкой, и он жаждал ее получить. Мужчина ведь не святой.
Он еще дальше откидывает голову на спинку кресла. Вдавливает жесткое дерево в кожу затылка, стараясь справиться с пульсирующим волнением, поселившимся в его мозгу. Сегодняшний день еще может стать плодотворным, если только ему удастся справиться с обуявшим его жаром. Ничего, с минуты на минуту начнет действовать лекарство.
А какой хорошенькой она была. Хорошенькой, как цветок, и такой же бледной. Загубленные цветы, стол в морге. Машины на его фабрике в Суррее; будь проклят тот, кто их ему продал. Партия лепестков лаванды, целое состояние, вся она загублена, изгваздана в машинном масле, пропитана неискоренимым смрадом, который оно создает, сгорая. И ничего уже не сделаешь, остается лишь ждать следующего урожая. Он отдан на милость Природе и его конкурентам. Господь да спасет его — никто другой спасать не станет. Губы Конфетки: как сухи они были, точно перышки под его губами. И как сладко было ее целовать. Однако думать о ней не дело, не дело. Тот послеполуденный час в апреле — мираж; его попросту не было; он лишь иллюзия, мреющая над грудой навоза.
Труп на столе морга. Мужчины, заставившие его смотреть на тело, наполовину изъеденное рыбами. Череп вместо лица. Он сказал, что это Агнес. Но Агнес ли то была? Он всматривается снова. И череп чуть-чуть обрастает мясом, потом еще чуть-чуть, обретает, словно дразня Уильяма, человеческий облик, наращивая один лоскутик кожи за другим. Он смотрит, завороженный. Перед ним словно вырастает по какому-то волшебству из лужицы воска уже растаявшая свеча — кость облекается женской плотью, пока не становятся ясно узнаваемыми глаза, щеки, губы Агнес. Да, да, нечего было и сомневаться. Вся атмосфера мертвецкой понемногу утрачивает грубость, и вскоре стол, на котором лежит Агнес, обретает сходство с постелью, и в мягком свете белая мантия ее, подобающая монашке, если не ангелу, начинает сама собою светиться.