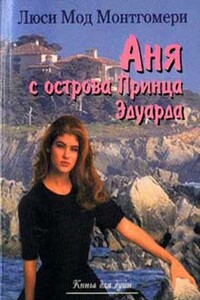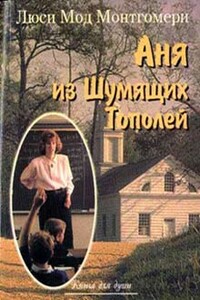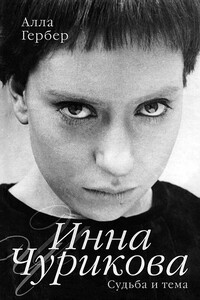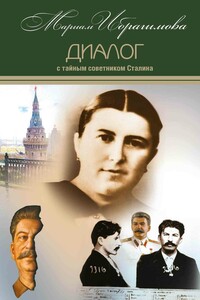Мама и папа | страница 34
"В воскресенье мы идем в театр", — объявлял папа еще в понедельник, и не было ничего прекрасней этих многодневных ожиданий театра. В воскресенье рано утром начинались приготовления. Из шкафа доставался черный, для театра, почему-то всегда новый, хотя годами один и тот же, костюм, долго выбирался галстук, хрустела в маминых руках накрахмаленная белая рубашка. Мы выходили из дома задолго до начала спектакля, потому что в театр, говорил папа, нельзя бежать, в театр надо идти. Теперь-то я всегда опаздываю и вбегаю в зал с последним звонком. А тогда театр и впрямь начинался для нас с вешалки. Мы входили в еще пустое фойе Художественного, и приветливые, какие-то мхатовские, гардеробщицы встречали нас как старых знакомых. Тут же предлагали программку, выбирали бинокль, рассказывали, кто сегодня играет и даже чем именно заболела Степанова, которую заменяет Гошева. Мы никогда, как другие, не шли в буфет до начала. "Надо спокойно сесть и сосредоточиться... надо успокоиться", — говорил папа, хотя я, как мне казалось, была совершенно спокойна. А вот папа действительно волновался, как будто это была его премьера или ему предстояло сейчас выйти на сцену. Мне всегда казалось, что после спектакля актеры смотрят только на него — с таким неистовством он аплодировал, возвышаясь ростом над остальными зрителями. Театр на всю жизнь остался для меня самым удивительным местом, которое не кончается, не обрывается с концом спектакля. "Нельзя после театра, — говорил папа, — бежать на трамвай или спускаться в метро. Надо посидеть, подумать, отпраздновать наконец этот день..." И вот тогда-то мы шли в "Артистическое" и праздновали вроде бы не свой праздник. Но... в жизни, говорил папа, всегда есть место празднику.
В ту ночь, когда за ним пришли, они с мамой вечером (Восьмое марта, праздник!) были в театре. Я ждала их, хотя была уже старшеклассницей и моя жизнь теперь не всегда пересекалась с ними. Но так повелось, что я не ложилась спать, пока они не приходили, а сейчас, когда выросла, тем более, потому что самые интересные разговоры происходили за вечерним, можно сказать — ночным чаепитием.
Помню, уже после смерти папы мне удалось на лето устроить маму с сыном в маленькой гостинице под Москвой. Мама тогда подружилась с администраторшей Анной Романовной, у которой в жизни только и была радость, что эта гостиница и ее, часто из года в год постоянные, обитатели. И пока было можно, пока гостиницу не поставили на "спецобслуживание", туда с маминой помощью стали наезжать наши, точнее, мои друзья, которые давно стали общими. Мама чувствовала себя хозяйкой этого не ее дома, ответственной за то, чтобы всем, кто приезжал, было хорошо. И вот однажды очередная гостья, впервые попавшая в этот, по уверениям мамы, райский уголок, встретила на станции свою знакомую, от которой узнала, как здесь... УЖАСНО. Публика кошмарная, кормежка отвратительная, причем так дорого, что они с мужем вынуждены на ужин варить в номере гречневую кашу, природы никакой, вода с керосином, пляж грязный, лес вырублен, в кинотеатре одно... А навстречу им бежала моя мама. Что же ОНА сказала? Это рассказ моей подруги, и дальше я передаю его с ее слов. "...И бежит нам навстречу мама Фаня (так называли маму мои друзья). Глаза светятся, щеки пылают, в руках ключи от моего номера... "Женечка, — говорит, — как хорошо, что вы, наконец, приехали. Вы не представляете, как здесь прекрасно. Во-первых, какая здесь Волга — я часами сижу и смотрю. А какой пляж, ну прямо как на Алупке, — чистейший желтый песок. Лес совсем рядом, правда, не очень дремучий, зато какая сосна! А люди... Нет, Женечка, какие здесь симпатичные, приветливые, интеллигентные люди... А кормят как! Во-первых, вкусно, а во-вторых, очень дешево, мы с Сашкой укладываемся, нам хватает..." Та, которой все не нравилось и ни на что не хватало (а была она женой члена-корреспондента) посмотрела на маму с удивлением — она ничего не поняла. Да и где ей было понять?! Ей и в голову не могло прийти, что эта красивая, похожая на маркизу женщина впервые смогла поехать в Ленинград, когда ей исполнилось пятьдесят лет. Что она, закончившая два института, знавшая наизусть великих немецких поэтов, не только никогда не была в Германии, но и в Прибалтику попала под конец жизни и считала себя счастливой, что увидела наконец Вильнюс, и мечтала побывать там хотя бы еще раз. Что единственной ценной вещью в ее жизни были... шиншилла и серебряное кольцо с янтарным камешком. Что она всегда экономила на себе, но для гостей не было дома гостеприимнее и хлебосольнее. "Нищие, — смеялась мама, не разоряются..."