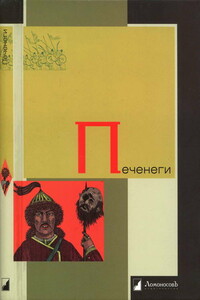Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII веков | страница 42
Приведем еще один и последний пример. Сага о короле Сигурде, палестинском пилигриме, рассказывает в числе других баснословных подробностей его путешествияоторжественном везде его в Царьград, не замеченном, конечно, византийскими хрониками. «Люди рассказывают», — повествует Снорре Стурлесон, — «что король приказал подковать свою лошадь золотом, прежде чем он въехал в город; это было устроено так, что одна из подков должна была свалиться на улице, и никто из его людей не должен был обращать на то свое внимание» (Antiquites Russes I, 385). Ho старая французская хроника то же самое приписывает герцогу Роберту Норманнскому: «А l'entree de la ville, ou l'empereur estoit, il fist ferrer une mulle, que on lui menoit apres lui, de quatre ferres de fin or, et deffendit a tout ses gens que si la mulle se deferroit que nul ne redrecast le fer». Весьма вероятно, что Исландцы заимствовали чужой рассказ и перенесли его на своего короля Сигурда. Подслушали они его в самом Константинополе, что возможно или списали его с какой-либо французской хроники, что не менее вероятно: во всяком случае, такие подробности мало рекомендуют историческую достоверность саги и не свидетельствуют в пользу неизменности и точности исландского предания. Припомним, что время короля Сигурда гораздо ближе к Снорре Стурлесону, чем время Гаральда Гардрада.
/410/ После приведенных примеров нам легче будет отвечать на вопросы: что такое исландская сага, в какой степени она может служить историческим материалом, то есть, насколько в ней обретается действительной фактической истории, и как отделить в ней исторический элемент от поэзии и баснословия?
VI. Песни скальдов, как единственный исторический материал в сагах для вопроса о Варягах
Во-первых, чисто исторический элемент находится не во всех исландских сагах, а только в некоторых из них. Всякий прозаический рассказ, относится ли его содержание [241] к области вымысла или имеет историческую подкладку, называется у Исландцев сагою (saga, sogur). Большое различие в самом содержании саг, прежде всего, было замечено наукой, и критика давно распределяет саги на несколько видов, отделяя «вымышленные» от «исторических». Было время, когда, по следам Саксона Грамматика, всех мифических героев саги, начиная с Одина, выдавали за скандинавских князей, но это время давно прошло. Всех более и прежде других содействовал этому датский ученый епископ Мюллер. Он с достаточною для своего времени точностью изучил историю развития исландского дееписания и сделал опыт подробного разбора отдельных до нас дошедших прозаических памятников северной письменности. Он пытался определить, какие саги имеют действительную историческую основу, и какие вымышлены, и потом — к какому времени относится происхождение той или другой саги (не письменная редакция). От его проницательности и — по времени — весьма здравой критики не ускользнуло то обстоятельство, что и саги с историческою основой имеют добавления совершенно другого характера. На основаниях, указанных Мюллером, разделяют саги на мифические, романтические, полуисторические и вполне исторические.