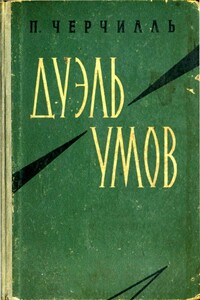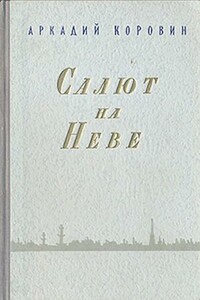Партизанские встречи | страница 21
— А помните, кто был дедом Морозом?
— Шеметов, — сказала Вера.
Бондаренко посмотрел на Веру. Ему хотелось разглядеть её лицо, но голова девушки была закутана большой пуховой шалью, и Бондаренко увидел только длинные заиндевевшие ресницы и темные глаза.
— Он тоже в городе, Алексей Дмитриевич, — сказал Литвин, — работает с нами.
— Вот как? — удивился Бондаренко, точно впервые узнал об этом. — Ну, и отлично. После операции расскажете обо всём, а теперь — к делу. Нам нужен тол, помогите нам вывезти взрывчатку из города.
— Тол есть, — ответил Литвин, — вывезти его из города можно с ящиками масла с нашего завода.
— Когда масло повезете в Почеп? — спросила Вера Литвина.
Литвин стоял по колени в снегу, точно вкопанный. Одет он был тепло и несколько щегольски — в шубе-барчатке, с приподнятыми к поясу полами. Широкодонная, кубанка была лихо сдвинута на затылок.
— В понедельник, — ответил он.
— Как в понедельник? Через семь дней?
— Правильно подсчитала.
— Завтра надо вывезти, — сказал Бондаренко.
— Завтра нельзя, опять вьюга будет.
Вера запрокинула голову и глянула на черное небо. Крупные хлопья снега мягко ложились ей на лицо, таяли.
— Ворона — поганая птица. Ты, часом, не из стаи ворон? — съязвила Вера.
— И впрямь беду накаркаешь, Литвин, — сказал Бондаренко, перебив Веру.
— Ворона и каркает, — невозмутимо ответил Литвин. — Комендант от барометра не отходит.
— Комендант, говоришь, у барометра каркает? Что ж, метель так метель! Это нам даже сподручнее.
— Пора уже тебе командовать комендантом, — сказала Вера. — В комендатуре у тебя как никак и протекция есть. — Вера намекнула на связь коменданта с бывшей женой Литвина.
— Да, кстати, — вмешался опять Бондаренко, отводя Литвина в сторону. — Как всё-таки ты… с женой?
— Запутанная это история, Алексей Дмитриевич. Очень запутанная. И прямо скажу — я несколько теряюсь. Он ведь ненавидит фашистов, открыто презирает и бургомистра, то есть папашу моей бывшей. И откуда такой — не пойму. Вообще, так сказать, академически умозрительного склада человек. Занимался историей, чистой наукой. А теперь пьёт!
— Вот оно как! — протянул Бондаренко.
— Да, — продолжал Литвин. — На днях вызвал меня к себе. Пьяный. Жмет руку и говорит: «Молодец! Люблю людей справедливых и честных. А их всех расстреляют — бургомистра и вашу…» — «Кто, — спрашиваю, — господин комендант?» Он в упор посмотрел на меня большущими глазами и говорит: «Глупец, понимать надо: большевики. Да, большевики, они вернутся. Они никуда и не уходили». И понес такое про Гитлера, что у меня волосы дыбом встали. Я озираюсь, выбираю окно, в которое поудобнее выпрыгнуть, на всякий случай… Чёрт его знает, кто он такой, этот Хортвиг! Мне показалось, что он всё про нас знает. Хотелось схватить его за горло: сдержался. В пылу пьяного гнева он кричал: «Я доктор истории, Эдуард фон Хортвиг. Историк! Я пять лет при Гитлере историю читал в Лейпциге. Книжки писал. Плохие книжки! Дрянь! Но печатали. Мне это нравилось и… я вступил в нацистскую партию. А теперь всё осточертело — и собственная ложь, и вообще всякая. Нет науки в новой Германии! Ничего нет. Есть Гитлер, Гиммлер, Геринг, Геббельс, растление умов, духа, нравов, милитаризм, армия, война, доппелькюммель… и больше ничего! Немного для человека. Армия, имейте в виду, сильная, но… чёрт его бери это растление… И вот я — растленный доктор исторических наук — здесь у вас, в России, в Трубчевске, с твоей женой… Но терпеть это невозможно». Он долго ещё ораторствовал, расхаживая по кабинету. Потом подтащил меня за руку к барометру. «Видишь? — спросил он. Стрелка барометра показывала бурю. — Это на неделю! Запрещаю ехать в Почеп. Холодно. Поживут наши герои и без масла. А если хотят — пусть с юга доставляют».