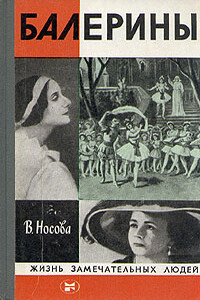Основы режиссуры | страница 11
Нередко объединяя различную художественную информацию в единое целое, режиссер использует метод коллажа, то есть включения с помощью монтажа, в произведение искусства разнородных объектов или тем, для усиления общего идейно-эстетического воздействия. К этому методу обращались Бертольд Брехт и Евгений Вахтангов, Юрий Любимов и Эрвин Пискатор, Федерико Феллини и Андрей Тарковский.
При этом не надо понимать монтаж как некое механическое соединение разнородного по своей структуре материала. По параболическому принципу можно соединять и материал вполне однородный. В "Трех сестрах" А. П. Чехова, например, нетрудно увидеть три независимых друг от друга, равноправных и эмоционально разнородных элемента - три узла взаимоотношений между героями: 1) Тузенбах - Ирина - Соленый; 2) Кулагин - Маша - Вершинин; 3) Андрей - Наташа - Протопопов.
Единое действие у Чехова не просто ослабляется, а исчезает вообще. Вместо клубка событий, вытекающих одно из другого как следствие из причины, в чеховских пьесах воспроизводится поток событий разнородных, каждый раз вызываемых новыми, особыми обстоятельствами. Разработав несколько равноправных линий действия, Чехов, тем не менее, сумел сделать сюжеты своих пьес внутренне едиными, монолитными и цельными. Он построил их на глубоко продуманных, многозначительных сопоставлениях друг с другом по принципу коллажа персонажей, событий, сценических эпизодов, реплик. Эти сопоставления весьма разноплановы и ведутся как по сходству, так и по контрасту.
Высказывания действующих лиц, кажущиеся подчас случайными, разбросанными хаотически и беспорядочно, многозначительно сопоставляются друг с другом. Возвышенные мечты героев "Трех сестер" то и дело снижаются будничными репликами, которые звучат как бы ответом реальной жизни на их романтические стремления. Таким откликом на слова Ольги о том, что ей "на родину хочется страстно", является чебутыкинское " черта с два", сказанное по другому поводу. Ответом на раздумья Тузенбаха о многочисленных страданиях звучит "цып-цып-цып" Соленого, произнесенное как будто бы совсем не по существу разговора. Ироническое отношение автора к Кулыгину угадывается в словах: "Я здесь в доме свой человек", произнесенных почти сразу после реплики Маши: "Эта жизнь проклятая, почти невыносимая", которой тот не слышал. Во всех случаях имеет место не причинно-следственная, не внешняя, а ассоциативная, внутренняя, эмоционально-смысловая связь между репликами. Приведенные группы реплик как бы иллюстрируют знаменитый парадокс С. Эйзенштейна: в искусстве, где есть монтаж, 1+1>2.