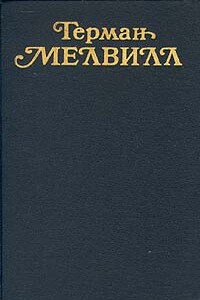Израиль Поттер. Пятьдесят лет его изгнания | страница 31
Услышав имя доктора Франклина, старуха поспешила выйти к Израилю и почтительно проводила его через двор к подъезду в дальнем углу этого обширного здания, а затем по лестнице на третий этаж, где и оставила его перед дверью. Израиль постучал.
— Войдите, — послышалось изнутри.
И Израиль тут же предстал перед достопочтенным доктором Франклином.
Мудрец в пышном халате — прихотливом подарке какой-то поклонницы-маркизы, расшитом алгебраическими формулами, точно мантия фокусника, — и в черной шелковой шапочке, плотно обтягивавшей могучее вместилище его мыслей, сидел за огромным круглым, как зодиак, столом, опиравшимся на львиные лапы. Стол был завален газетами, стопками документов, свертками рукописей, металлическими и деревянными частями каких-то механических моделей, странного вида памфлетами на разных языках и всевозможными книгами — среди них имелось много дарственных — по истории, механике, дипломатии, сельскому хозяйству, политической экономии, метафизике, метеорологии и геометрии. На стенах, придавая им колдовской вид, висели всяческие барометры, чертежи удивительных изобретений, большие карты дальних окраин Нового Света с обширными пробелами посредине, поперек которых было широкой разрядкой напечатано слово «пустыня» так, чтобы тремя слогами спаять воедино двадцать пять градусов долготы (впрочем, это слово было энергично перечеркнуто самим доктором как бы в полное его опровержение), пестрые топографические и тригонометрические карты различных областей Европы, а также геометрические диаграммы и многие другие столь же поразительные гобелены и портьеры науки.
Сама комната являла многочисленные свидетельства своей древности. По запыленной штукатурке стены змеились трещины, что придавало помещению мрачный и запущенный вид. Однако его обитатель, несмотря на преклонные годы и множество морщин, выглядел здоровым и был очень опрятен. И стена, и мудрец были сотворены из одного материала — извести и пыли, оба они были стары, однако если грубая поверхность стены была лишена защитного покрова краски, который скрыл бы изъяны и грязь и придал бы ей внешнюю свежесть, пусть даже внутренность ее давно истлела от дряхлости, то живая известь и пыль мудреца прятались за благодетельными фресками его цветущего духа.
День был жаркий, и комната гудела мухами, словно старая вест-индская бочка где-нибудь на пристани. Но ученый ее обитатель оставался спокоен и невозмутим. Он так глубоко погрузился в особый мир своих занятий и мыслей, что эти назойливые насекомые, как и будничные заботы и хлопоты, казалось, совсем ему не досаждали. Сколь прекрасен был вид безмятежного и прозорливого старца-философа, который, острым умом постигая простых людей, а потом долго размышляя о них среди всех этих редких инструментов, карт и книг, обрел в конце концов такую удивительную мудрость! Он неподвижно сидел в облаке беспокойно кружащих мух, и страницы старинного потрепанного фолианта в переплете, темном и корявом, как кора столетнего дуба, тихо шелестели под его пальцами, словно лесная листва в полуденный час. Мнилось, что этот углубленный в себя румяный старец должен постигнуть тайны сверхъестественного и, уж во всяком случае, обладать прозрением будущего, мягкой насмешливостью и практической мудростью. Старость, казалось, не только не притупила его способностей, а, напротив, отточила их — так старые столовые ножи, если они сделаны из хорошей стали, становятся от долгого употребления острыми, тонкими и гибкими, как китовый ус. И все же, хотя он, несмотря на свои семьдесят два года (таков был его возраст), выглядел полным сил и жизни, в нем в то же время чудилось что-то неописуемо древнее, измеряемое не календарными годами, но зрелостью разума. Седые волосы и ясное чело говорили не только о прошлом, но и о будущем. Возраст его следовало бы определить ста сорока годами, ибо семьдесят лет прозрения грядущего в сочетании с семьюдесятью годами воспоминаний составляют именно сто сорок лет.