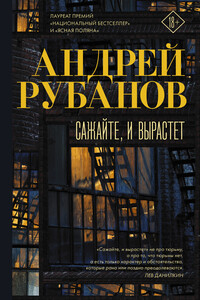Йод | страница 12
Ограбленный папа представлял себе бывшего друга Михаила, с отсеченными ногами, в инвалидной коляске, и вдохновлялся.
Можно ампутировать и руки тоже. Отрезать язык. Пусть смотрит и мычит.
Безусловно, далее рассуждал ограбленный, для начала необходимо адаптироваться. После общей камеры мироощущение изменилось. Бывший арестант слишком груб и тверд для вольной жизни. Слишком часто кидает по сторонам подозрительные взгляды. Все время под балдой, глаза налиты кровью. Иногда на улице прохожие смотрят на него с опаской. Даже оглядываются. А жена прямо говорит, что он черный и кривой и ей неуютно. Видно, что она чего-то ждет. Не Михаиловых долларов, нет – каких-то перемен в муже. Метаморфозы. Шагов от монстра к человеку. Ее не хотелось разочаровывать. Супруга расцвела и повзрослела, она водит машину, она служит в фитнес-центре на Кутузовском проспекте, куда приезжают наращивать мышечную массу влиятельные негодяи. Когда кто-нибудь из них ведет себя неподобающе, слишком развязно, бесцеремонно, невежливо – она не лезет за словом в карман. Любого одергивает сразу. «Все вы хороши, сначала пальцы гнете, а потом бегай, таскай вам передачки!» Негодяи молчат в тряпочку, уязвленные.
Ничего, шептал я себе под нос. Привыкну, врасту в свободу. В конце концов, это приятно: заново приучать себя к воздуху, солнцу, цветам, жареному мясу, сладкому вину. И полусладкому. И сухому, и полусухому.
Тюрьма позади, теперь мне все праздник. Пора учиться ходить, слегка пританцовывая.
Я найду его и убью, слегка пританцовывая.
Повторяю, девяносто девятый год – вторая его половина – показался мне спокойным и простым отрезком истории. Главной темой были, разумеется, последствия дефолта девяносто восьмого. Точнее, мизерность этих последствий. Я вышел на волю спустя восемь месяцев после событий и увидел Москву как город бодрый и весьма воодушевленный тем, что жизнь продолжается. Экономика цела, она всего лишь споткнулась, вместо финского и немецкого творога в магазинах продавался российский, не сильно хуже. Меня, провонявшего шконкой, особенно поразило обилие молодых женщин, управляющих шикарными автомобилями. Женщины выглядели расслабленными. Три года назад каждую такую женщину могли выкинуть из машины на любом полутемном перекрестке – сейчас все спешили забыть о диких временах, перекрестки сверкали огнями, а женщины – улыбками. Государственная система восторжествовала. Расшатанная в бестолковые истерические девяностые, Москва могла превратиться в огромную воровскую малину, погруженную в хаос и рассекаемую бешено несущимися лимузинами продвинутых убийц и аферистов, – этого не произошло, и я, бывший богатый человек и бывший зэк, ожидающий от каждого встречного небритого мужчины удара ножом в живот, либо кулаком в лицо, либо как минимум оскорбления, чувствовал себя не в своей тарелке. Никто меня не оскорблял, не обнажал клинка. Даже закурить не спрашивали. Все работали, зарабатывали, тратили, и черные кожаные куртки висели в магазинах 2 маловостребованные.