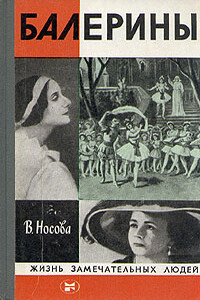Путь к спектаклю | страница 25
Николай Михайлович Горчаков, режиссер МХАТа, прошел школу Евг. Вахтангова, ставил спектакли под непосредственным руководством К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Его театральная жизнь с юного возраста была озарена трудами великих мастеров. Когда он занимался с нами, студентами режиссерского факультета ГИТИСа, при разборе наших режиссерских экспликаций готовящихся постановок, то требовал точного знания ремарок, составляющих конструкцию, каркас спектакля. “Не ленитесь! Режиссер должен быть бухгалтером – у него существует точная опись его инвентаря: сцен, оформления, реквизита”.
Самое интересное, что именно таким методом работал и Стрелер. Вряд ли он мог обмениваться опытом с Горчаковым, Кавериным и другими нашими учителями и коллегами.
Вот схема, по которой строилась работа режиссера.
Точное определение всех мест действия. Где больше проходит действие – на природе, вне помещений или в интерьере.
Определите чередование сцен – это поможет найти ритм действия. Список мест действия рождает у режиссера подход к решению спектакля, к образному замыслу.
Часто режиссер вычеркивает ремарки из литературного варианта пьесы, даже не пытаясь разобраться в их существе. “Творческой личности” даже оскорбительно читать ремарку: “входит”, “уходит”. Что ж, это режиссер не может понять сам? Ремарку нужно оживить, наполнить содержанием, образным действием.
Перечень мест действия вовсе не обязателен для точного воплощения в спектакле, но именно оно заставляет задуматься о композиции, единой установке или условном решении.
Мне, например, стало обязательным определение главной сцены спектакля. Она – отправная точка моей работы. Где сердце живого организма спектакля? Я видел не менее 30 спектаклей “Гамлета” – достаточно известного произведения. И каждый раз с волнением ожидал главной сцены – монолога “Быть или не быть”. По тому, как решался монолог, я по настоящему понимал суть спектакля.
Вспоминаю далекий 33-й год – театр им.Евг.Вахтангова – спектакль режиссера и художника Николая Павловича Акимова, вызвавший бурю протестов и восторгов, заклейменный ярлыками формализма, натурализма и еще каких-то “измов”. “Быть или не быть” – об этом рассуждал Гамлет – коренастый крепыш, сидящий на грубом табурете в дворцовой кухне, облокотившись на пивную бочку, держа в одной руке кружку с пивом, в другой – бутафорскую корону, оставшуюся от приехавшей актерской труппы. Здесь идет настоящий детектив – борьба за корону. Спектакль напряженный, темпераментный, наполненный сочными фламандскими красками, не лишенный философии, жизненной мудрости.