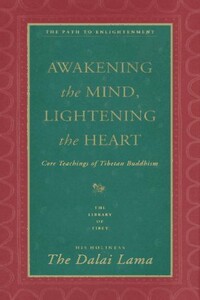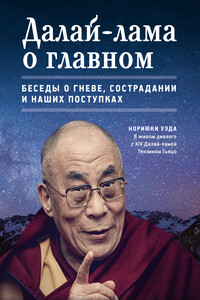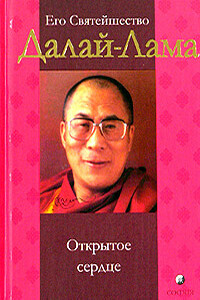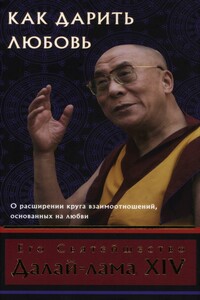Моя страна и мой народ. Воспоминания Его Святейшества Далай Ламы XIV | страница 29
Вне монастырей наша социальная система была феодальной. Существовало неравенство имущества между владевшей землей аристократией, на одном конце, и беднейшими крестьянами - на другом. Продвинуться в класс аристократии было крайне трудно, но не невозможно. Например, солдат мог получить титул и землю на храбрость, а и то и другое было наследственным.
Но, с другой стороны, продвижение к высшим позициям и должностям в монастырях было демократическим. Мальчик любого сословия мог попасть в монастырь, и его прогресс зависел от его способностей. В действительности, можно сказать, что институт воплощения высших лам имел демократическое влияние, поскольку ламы зачастую предпочитали родиться в скромных семьях, как, например, 13-й Далай Лама. Таким образом, выходцы из нижних слоев населения, как, например, я сам, могли находиться на самых высоких позициях в монашеском мире (я использую здесь, с некоторым колебанием, прошлое время, потому что Тибет сейчас оккупирован и трудно сказать в данный момент, Китае из наших институтов еще существуют, а какие уничтожаются).
У монастырей были свои ремесленники для монастырских нужд, и в какой-то степени они занимались торговлей. У некоторых монастырей были большие наделы земли, у некоторых - средства, которые они могли инвестировать. Но у других монастырей не было ни ого, ни другого. Часто монастыри получали дары. Некоторые действовали как ростовщики, а иные при этом предлагали такие проценты, какие я не стал бы одобрять. Но в целом они не были экономически самодостаточными. Многие из них более или менее зависели от субсидий, главным образом субсидий пищи от правительства. Именно по этой причине правительство хранило такие запасы зерна, чая и масла, а также ткани в складах Поталы, а также в других местах. Конечно, эти субсидии изымались из налогов и рент мирян.
Я упомянул солдат. У нас была армия, но очень маленькая. Ее главная задача была охранять границы и останавливать иностранцев, не имевших разрешения войти в страну. Эта армия также составляла и нашу полицию, за исключением Лхасы и монастырей, которые имели собственную полицию. В Лхасе армия добавляла военный оттенок церемониям и выстраивалась в линию по маршруту, когда я выезжал из дворцов. С этим связана любопытная история.
Около 50 лет назад, когда у нас были проблемы с китайцами, мой предшественник решил модернизировать армию, используя иностранных инструкторов. Никто не мог сказать, какая армия была наилучшей, чтобы стать образцом, поэтому он один полк тренировал с помощью русских, один - японцев и один - англичан. Британская система оказалась наиболее подходящей, поэтому в конце концов вся армия была организована по британскому образцу. Британские инструкторы оставили Тибет более чем поколение назад, но, поскольку в нашем языке не так много военных слов, вплоть до 1949 года в армии продолжали использоваться британские команды, и среди тибетских маршей, которые играли военные оркестры, были такие мелодии, как "It's а Long Way to Tipparary", "Auld Lang Syne" и "Боже, храни королеву". Но слова этих маршей, если кто-то из тибетцев их и знал, были забыты много времени назад.