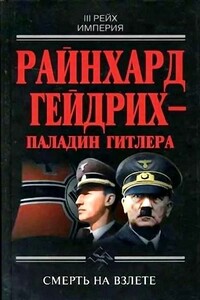Нацизм. От триумфа до эшафота | страница 22
Утром 27 февраля тюремные надзиратели неожиданно становятся вежливыми. Вскоре Димитрова приглашают в тюремную канцелярию. Его просят упаковать вещи, затем поспешно усаживают в автомобиль и увозят на аэродром. Только там Димитрову сообщают, что его высылают из Германии и он может ехать в Советский Союз. Все это делается в обстановке глубокой секретности и великой спешки. Геббельс боится, что если массы узнают об этом деле, то отъезд Димитрова вызовет антифашистскую демонстрацию. Едва только заканчивается лейпцигский процесс, как одна из крупных западных газет пишет: «Удивительно, почему Димитров молчит. Это, несомненно, результат германо-советской договоренности. Жизнь Димитрова была куплена ценой его молчания».
Но Димитров говорит. В санатории под Москвой, где он лечится после лейпцигского процесса, Димитров дает интервью корреспонденту выходящей большим тиражом французской либеральной газеты «Энтрансижан».
Ниже мы помещаем выборочно вопросы и ответы из интервью.
«Как с вами обращались?» — прозвучал первый вопрос.
«В тюрьме берлинской полиции у меня была чрезвычайно узкая камера. В ней было только-только место для койки. Когда я поворачивался на койке, я боялся удариться о стену. У меня забрали все деньги, которые при мне были».
«Но вам их вернули при освобождении!»
«Да нет же. Мне не вернули ни моих денег, ни моей библиотеки, стоившей две тысячи марок, ни чего бы то ни было из того, что у меня было конфисковано».
«Какова была пища?»
«Жидкость, которую они окрестили «кофе», — конечно, без сахара, — да ломоть хлеба. Вечером обед из бобов, гороха или манная каша. В первые дни меня не выпускали даже на прогулку… Однажды… один из чиновников громко сказал сопровождавшему меня полицейскому: «В Болгарии этот субъект избежал казни, хотя и был приговорен к смерти, но здесь его наверняка повесят».
«А как было после перевода в моабитскую тюрьму?»
«Меня поместили в камеру, предназначенную для самых тяжких преступников, с тройными решетками на окнах, с тройными запорами на дверях, с цементным полом… 3 апреля началось судебное следствие. Тогда же на меня надели ручные кандалы. Я носил кандалы до 31 августа днем и ночью, непрерывно. Их немножко распускали только на несколько минут для обеда и тогда, когда я раздевался, ложась спать».
«Какие это были кандалы?»
«Они представляли собой замкнутый сверху железный наручник, сковывавший положенные одна на другую руки. В зависимости от настроения тюремщика, который запирал на замок кандалы, они более или менее врезались мне в руки. Очень часто, особенно по ночам, кандалы жали так сильно, что руки немели. Вы не можете себе представить, что это значит для здоровья и нервной системы…»