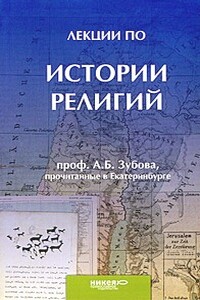История религии | страница 55
Кроманьонцы навыкли хоронить в земле своих мертвецов. И если они стремились поглубже в глубинах земли оставить изображения, то скорее всего и эти изображения имеют отношение не к этому надземному, но к тому подземному (инфернальному) миру. Они пытались скрыть изображения от глаз случайных зрителей, а часто – и от зрителей вообще – следовательно не человеку были предназначены они, или уж точно – не всякому человеку. Это были картины, предназначенные для обитателей подземного мира, для душ умерших и духов преисподней.
Это были картины того охотничьего рая, куда уходили предки и в котором они пребывали в ожидании воскресения. Духи, в отличие от живых, не могут поражать животных стрелами и копьями, но они нуждаются в крови жертвенных животных, чтобы там вести полноценную (полнокровную) жизнь и помогать обитателям этого мира. И потому изображены на сценах охоты истекающие кровью, умирающие животные. Это – вечно длящиеся жертвоприношения усопшим. А сходящиеся и беременные животные вечно умножают стада жертвенных зубров, лошадей, медведей, оленей и горных козлов. Жизнь того мира не прекращается, и жертва не прекращается, и благоденствие предков не омрачается всегда возможным для кратковременно живущих здесь людей забвением. Стремясь, видимо, утвердить жертвенный характер изображений, древние художники подмешивали в свои краски частицы сожженной плоти животных, их кровь и мозг, взятые, скорее всего, от телесных жертв.
Кое-где в залах, полных изображениями райских стад, ученые нашли остатки плошек жировых светильников, охру и даже отпечатки в окаменевшем иле босых человеческих ног. Видимо, посвященные в древние таинства жизни и смерти пробирались по бесконечным запутанным коридорам в запретные для других подземные святилища и там, в мерцающем свете чадящих ламп, танцем, песней и кто ведает как еще разрывали тот покров, которым отвека мир живых отделен от мира усопших.
Крупнейший специалист в области палеолитической живописи А. Леруа-Гуран [63] указал на интереснейшую ее особенность – «исключительное единообразие художественного содержания» – «образный смысл изображений, кажется, не изменяется с тридцатого до девятого тысячелетия до Р. Х. и остается одним и тем же от Астурии (западная часть Пиринейского полуострова. – А. З.)до Дона». Это явление сам французский ученый объяснил существованием «единой системы идей – системы, отражающей религию пещер». Географические пределы этой «религии» можно еще расширить, имея в виду очень сходные с франко-кантабрийскими, хотя безусловно и несколько упрощенные, «провинциальные» росписи Каповой пещеры Южного Урала. В чем причина казалось бы совершенно невозможного, в ту далекую эпоху малочисленного и разделенного человечества, единства и устойчивости художественного стиля мы, скорее всего, не узнаем никогда. Но это пространственное единство и временная устойчивость стиля являются косвенным свидетельством того, что для ориньякского и мадленского охотника живопись являлась не развлечением, не искусством для искусства, но значительнейшим для жизни делом.