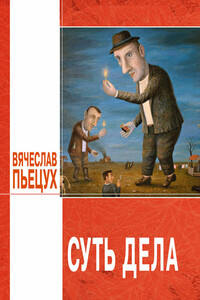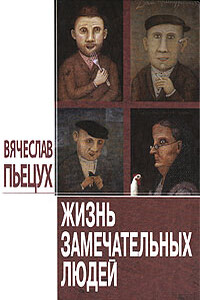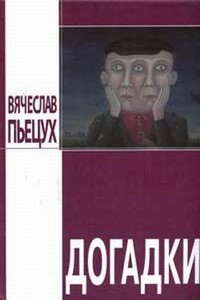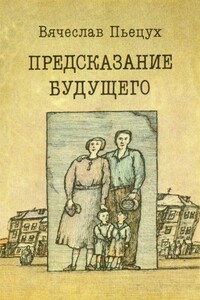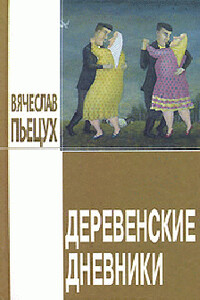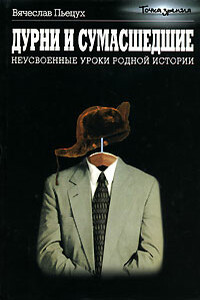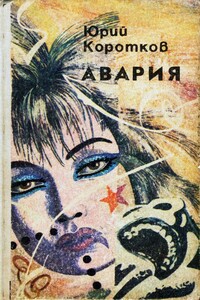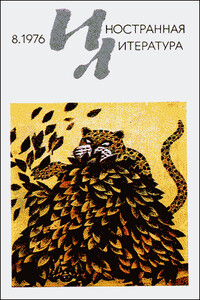Плагиат | страница 7
В сословном отношении население нашего дома было скорее однородным, всё окраинный московский демос и простота, но среди обитателей нашей улицы уже встречался чужеродный, как бы аристократический элемент. Так, в доме напротив сплошь жила старая московская интеллигенция из Барановых и Кривцовых (уж не потомки ли последние были знаменитого декабриста?), которые отличались такой кротостью, покладистостью, что даже не оборачивались, когда наши уличные мальчишки дразнили их унизительными словами, а то и бросали вслед мелкие фракции кирпича. Кажется, кто-то у них сидел.
Мне с младых ногтей претила не то что всяческая жестокость, но даже простая неблагорасположенность к человеку, тем более не спровоцированная ничем, и во мне что-то обмирало и обрывалось, когда я встречался с таинственной, отталкивающей, бесконечно пугающей силой, побуждающей людей ни с того ни с сего обижать соседей или вертеть кошек над головой. И вот поди ж ты: меня тоже раздражали Барановы и Кривцовы своей вечной опрятностью, смирением и невозмутимостью в ответ на глупые выходки простонародья, каковые качества точно были паче гордости и нестерпимее хвастовства. Какими-то они казались противно чужими, эти люди, иноземными и по-настоящему сердили своей непохожестью на обыкновенное большинство. Помню, как Иннокентия Баранова, бывшего старше меня года на два, тогда первоклассника, спросил старик-завуч, живший с ним по соседству:
— Ты почему, Баранов, плохо учишься, отвечай?!
Кеша ответил:
— Потому что во многие знания многая печали.
И я отлично помню, как этот ответ меня озадачил и рассердил. Видимо, в то время мое детство было на исходе и ангельское во мне постепенно угасало, коли я уже был способен злиться и не любить.
На противоположной стороне улицы, рядом с Барановыми и Кривцовыми, обитала как бы племенем такая несусветная чернь, что даже обыкновенное большинство относилось к ней несколько свысока. Они были неясной национальной принадлежности, с европейскими чертами, но скуластенькие, и при этом отличались каким-то спотыкающимся произношением и немосковскими обычаями, чего ради каждый из них носил собирательное прозвание — печенег. Эти самые печенеги были прямо библейской беднотой, чуть ли не до лохмотьев, и наша улица постоянно собирала для них то детские вещи, то предметы мелкого обихода, то медными деньгами на еду; тогда еще существовала по окраинам своего рода общинность, народная солидарность в противовес людоедской направленности русского государства, и поделиться с соседом было таким же естественным побуждением, как попить; сдается, народы тоже по временам впадают в детство (например, под видом социальных революций), а потом выпадают из него больно и тяжело.