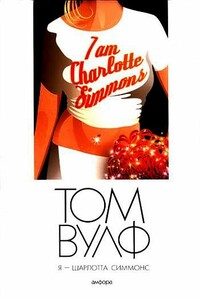Плагиат | страница 31
С моим первым и настоящим другом Вовочкой Камчатовым мы тяжело дружили все юношеские годы, потом как-то незаметно разошлись и с тех пор не знаемся много лет.
Наши тогдашние отношения тем были отчасти отягощены, что мы принадлежали к разным общественным слоям, хотя и не антагонистическим: Вовочкин отец полжизни прожил за границей, я был, что называется, из простых. Впрочем, нужно отдать должное социальной практике моей юности, которую вольно или невольно поощряли большевики: мои сверстники из непростых хладнокровно относились к своему исключительному положению, и даже в семьях высокопоставленных государственных чиновников культивировался чуть ли не аскетизм. Вот училась в нашей группе дочка одного из первых хозяев страны, и что же? — и одевалась она, как все, и занималась, как все, и вела себя достойно, но, правда, держалась настораживающе-ортодоксальных воззрений в ту пору, когда фронда нашему оголтелому большевизму уже распространилась критически широко. Помнится, как-то на семинаре по источниковедению (почему именно на семинаре по источниковедению?) я сказал:
— Отчего это русскому народу вот уже тысячу лет как не дают свободно высказывать свое мнение? — не пойму!
— Оттого, — сообщила мне дочка одного из первых хозяев страны, — что у нас полно таких дураков, как ты.
(Меня и в отрочестве, и в юности так часто называли дураком, что по самые зрелые годы живо интересовал вопрос: дурак я на самом деле или же не дурак?)
Теперь я с моей однокашницей, пожалуй что, соглашусь; впоследствии оказалось, что свобода слова, этот гуманнейший институт и опора цивилизации, способна повлечь за собой такие оглушительные перемены, такие жестокие пертурбации и метаморфозы, что, может быть, лучше было бы оставаться, как преферансисты выражаются, «при своих»… Хотя, разумеется, кто бы мог подумать, что Александру Ивановичу Герцену со временем наследует такое несообразное соотношение: в бывшей культурной столице мира окажется гораздо меньше книжных магазинов, чем борделей и казино. Вообще периферийная жизнь человека у нас кроится так неразумно и сшивается так небрежно, что нет расчета серьезно заниматься чем бы то ни было, кроме как чтением книг и самим собой.
В юности я узнал, что такое бедность, и даже не бедность, а своеобразная прелесть скрупулезной экономии ради светлого дня, то есть ежесубботних студенческих пирушек[12] или пары новых туфель, жизненно необходимых по той причине, что такие носили все. Стипендии нам тогда платили тридцать два рубля с копейками, и, если ты, что называется, не сидел на шее у родителей, этого никак не хватало на прожитье. Почти все мои однокурсники сидели на шее у родителей, но я решил во что бы то ни стало существовать на собственный кошт, даже если бы за это мне причитались нервное истощение и гастрит. На практике это означало, что рубль-целковый ежедневного бюджета нужно было хитроумно разложить по таким статьям: городской транспорт, минимум хлеба насущного, сигареты, пятьдесят копеек на светлый день. Пачка болгарских сигарет стоила четырнадцать копеек, стакан томатного сока и два пирожка с мясом в университетском буфете обходились в тридцать копеек, на дорогу туда и обратно уходило десять копеек в день. Таким образом, четыре копейки в день составляли вечную прореху в моем бюджете, которая у политэкономов называется — дефицит; эти четыре копейки были мое вечное мучение и позор.