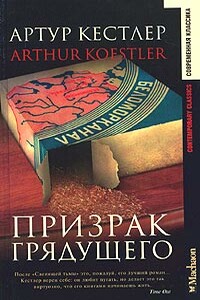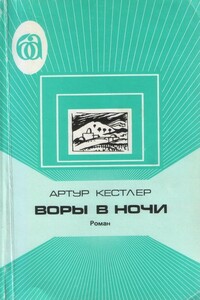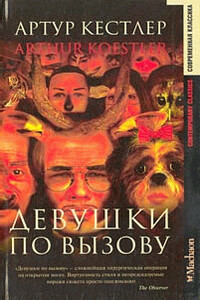Размышления о виселице | страница 38
«Правительство очень внимательно изучило вопрос... Точка зрения, которую оно склонно принять, следующая: не было бы никакой пользы вносить смятение в нынешнее положение дел и лучше сохранить прежний порядок в делах».
Нынешнее положение дел можно охарактеризовать цитатой, извлеченной из отчета Королевской комиссии: «Если умственно неполноценное лицо обвиняется в предумышленном убийстве и если суд присяжных убежден в том, что оно совершило проступок, в котором обвиняется, у присяжных нет иного выхода, кроме как объявить его уличенным в совершении предумышленного убийства, а судья обязан вынести смертный приговор».
Один выдающийся психиатр говорил недавно по поводу некоторых аспектов закона о предумышленном убийстве:
«Нехорошо было бы соединять в столь ограниченном пространстве такое количество отвлеченных и расплывчатых понятий, двусмысленных слов, уязвимых изобретений... Даже самый концепт «уголовной ответственности» — фикция, которую невозможно поддержать с логической точки зрения... Если справедливость и торжествует, это происходит вовсе не в силу данных правил и законов, а благодаря здравому смыслу, с которым подходят к этим законам наши трибуналы. Когда лицо, обвиненное в предумышленном убийстве, оказывается как будто приличным человеком и представляется, что оно в большой степени было спровоцировано своей жертвой — о которой можно сказать только то, что она получила по заслугам, — когда, в то же время, менталитет этого лица отличается от нашего, заместитель прокурора ослабляет свой натиск, судьи дают понять, что они склонны к милосердию, а присяжные цепляются за малейший случай не выносить вердикт, автоматическим следствием которого был бы смертный приговор».
Другими словами, касательно убийства мы достигли того же положения, какое существовало в XIX веке в случаях с мелкими кражами. Когда у присяжных не оставалось иного выбора, кроме как объявить виновным беднягу, стащившего предмет, оцененный в сорок шиллингов, говорили, что он не стоит больше тридцати девяти, и таким образом издевались над впавшим в анахронизм законом. Теперь, перед лицом дилеммы того же порядка, беднягу объявляют виновным, но невменяемым, хотя бы он и не был таковым, поскольку это единственный способ спасти ему жизнь.
Иногда присяжным удается таким образом спасти человека, иногда нет. Это во многом зависит от их смелости и от их решимости не считаться с советами придерживаться строгости, исходящими от судьи. Когда судья человечен, он «расширяет» правило. Вот уже пятьдесят лет тому назад один из величайших авторитетов в данной области писал, что в подобных обстоятельствах «судья должен строго придерживаться указаний закона, затем "расширить" смысл употребляемых в законе слов, пока человек, непривычный к употреблению юридического языка, не будет ошеломлен тем, какие искажения и уклонения претерпевают бедные слова, и не задаст себе вопроса, а так ли необходимо использовать этим способом язык, чье наиболее очевидное преимущество заключается в том, что он выражает все то, что говорящий хочет в него вложить».