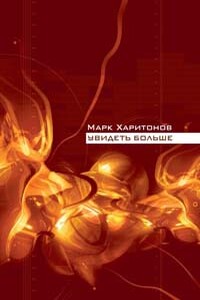Возвращение ниоткуда | страница 32
Гигантская ступня вдруг снова смахивает тебя, муравья, с травинки, потрясение вспыхивает вместе с ударом литавр…
Одинокий голос, весть ниоткуда… возвращается, рассыпается, пробует снова. Пространство без цвета, шепоты без голосов, невнятные тени среди слежавшихся бумажных груд. Хруст стеклянного крошева, отзвук пустоты под ногами. Невозможность помнить оба состояния одновременно — только плыть и лететь на кончике смычка, внутри неумолимо уходящей мелодии, следуя и подчиняясь каждому ее изгибу, но не охватывая музыки в целом, пока она не кончится, как не охватываешь жизни, пока все происходит впервые. Ни одна мысль и ни одна вина не изжита окончательно, все продолжает совершаться, прошлое, настоящее и будущее не разделены, как не разделено живое и мертвое: слова, вычитанные в книге или на бумажном обрывке, роспись собора, хлебная крошка на скатерти, запах хлорки в грязном сортире, ритуалы и песнопения, и события давних времен — все лишь внешнее вещество, которое может войти в состав твоей жизни, а может и не войти — все лишь камешки, от которых может возникнуть живая искра, а может и не возникнуть, лишь подпорки для восхождения, раз нам не дано воспарить. Ступня соскальзывает в ту же заледенелую выемку, соскальзывает мелодия в ту же тему. Это окружает нас каждый миг, и ни на миг нельзя расслабиться, гарантий нет, вход может раскрыться где угодно. Все стало ясно, и некому сказать. Пустота, одиночество, прозрачный туман, отзвук колокола вдали, гулкое эхо — не докричаться…
— Что ты сидишь в наушниках? — говорит папа, глядя на меня из дверей. Рука прикрывает от воздуха огонек свечи, розовеет на просвет кожица между пальцами. В комнате, оказывается, почти совсем темно, бобины магнитофона не крутятся. — Как маленький, честное слово! — Он покачивает головой, в голосе его неуверенность, он не знает, как оценить это мое сидение в темноте, перед неработающим прибором. — Свет опять отключили. Черт знает что!
8. Уроки жизни
Смотришь, не узнавая, не понимая, как бывает во сне или в миг внезапного пробуждения. Одуванчиковый шар света вокруг фитиля. Выхваченный из поземки, среди темной улицы стоит стол, покрытый розовой, в белых цветах, скатертью. Папа сидит за столом, привычно пошатывает пальцем нижний зуб во рту. Уже в своей любимой пижаме цвета домашнего уюта, полоска желто-коричневая. Он старался переодеться в нее сразу, едва приходил с работы, словно спешил вместе с костюмом сменить состояние, избавиться не просто от галстука, пиджака и рубашки, но от забот, давивших на кадык, портивших вкус пищи, от пота, остывшего, впитанного одеждой вместе с суетой и напряжением рабочего дня. Разрастающийся свет все явственней обозначает как бы еще не полностью геометрическое, тающее к углам пространство жилья, старомодный буфет у одной стены, рыжее пианино у другой (на крышке длинная льняная салфетка с вышивкой гладью, наверху громоздкое изделие из коричневого фаянса, изображающее как бы гору с тремя выросшими из нее фигурами, которые в разные годы моего детства по-разному мной толковались). Кремовые, с мелким узором, обои на стенах ограждают сейчас нас обоих от непогоды, от темного ветренного пространства — такие непрочные, такие, в сущности, условные, что даже огонек на фитиле колеблется, словно от внешнего дуновения.