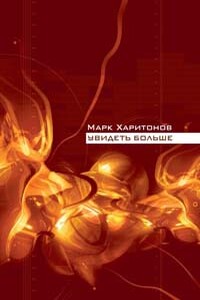Возвращение ниоткуда | страница 30
В детстве это не осознается как страх смерти. Я не думал, что этого боюсь. Умирали вокруг то и дело, кого-то увозили по коридору на скрипучей каталке, закрыв с головой простынею, это вызывало больше умственное любопытство, чем страх. (Разве что боязнь опять огорчить родителей). В этом смысле я тоже долго не мог повзрослеть. Боялся я чего-то другого — как темноты в пустой комнате или даже того, что происходило во мне, когда я закрывал глаза: вдруг сейчас все на самом деле исчезнет и уже не возникнет снова, в том числе я сам?.. Надо было скорей открыть глаза, чтобы успокоить забившееся сердце. Но увидев в то утро опустевшую койку в одиночном боксе, я впервые не мог вместить в себя полноты и окончательности этого исчезновения. Как будто вместе с этим нездешним мальчиком невозвратимо исчезло что-то мое — я не просто внутри себя ощутил исчезновение целого мира, я был к этому исчезновению причастен, а может быть, в нем повинен, как будто действительно перелил в себя частицу чужого сознания или чужой жизни, и уже не мог ничего с этим поделать, не мог ничего спасти. Как будто речь шла в самом деле именно о спасении мира, не более и не менее — но ради чего еще, если вникнуть, придумывались потом все эти самодельные дурацкие сюжеты, где окончательное исчезновение заменялось чем-то другим, более щадящим? Иначе просто не удавалось справиться с тоской и волнением. Но тогда я этого еще не умел. Мозг расплывался, слова рассыпались. Тот приступ был самым невыносимым, вид доктора с черной ассирийской бородкой связывался теперь с этим страхом.
Удалось ли нам от него здесь укрыться?
Перемещение в иное пространство, переход в другую тональность: о том же, но не так. Взвизг хамской синкопы. Гротескное скерцо, часть вторая. Ритмичная, однообразная попытка пробиться к наслаждению или к облегчению, но ведь бывает сладко облегчение нужды. Радость насилия. Лица опалены, оплавлены, искривленные провалы вместо ртов. «Есть средства», — говорит знакомый, но неузнаваемый голос. Я снова задыхаюсь на дне «кучи-малы», но в самый последний момент, когда выдержать кажется уже невозможно, меня нащупывает рука, пахнущая поломойным ведром и тряпкой. Я брал из этой руки с грязными ногтями утешительный леденец. Вот кто был мне тогда близким человеком — моя спасительница тетя Феня, толстая гнилозубая уборщица, отделявшая от наших порций масло, чтобы унести домой, двум внукам. Она ругалась на нас матом и замахивалась шваброй, но меня никогда не била…