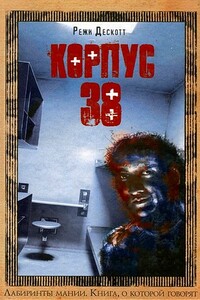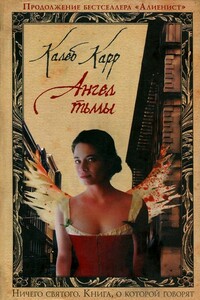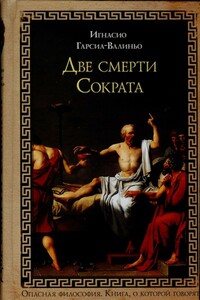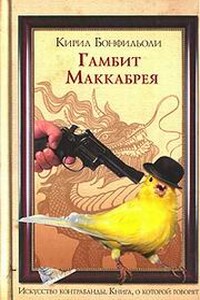Тайна Шампольона | страница 14
Ученые не могли оставаться в стороне от жизни общества. Я сам был увлечен этой волной, и Египет обосновался у меня, как у себя дома. Я читал, я изучал. Я стал экзальтированным. Тем самым я добился сближения с моей дорогой женой Гортензией. Мне было пятьдесят. Это что, подходящий возраст для страсти? Мудрость требовала, чтобы я забросил дело расшифровки, — этому уже неразумно отдались те, кто моложе и тверже. Дабы восславить идею, которую они защищали, или разрушить другие, дабы заблистать пред всем миром или его осветить, все хотели взломать запоры, за коими скрывались тайные слова фараонов. Что выиграл бы я, погружаясь в этот кипящий котел?
Но нашелся человек, который решил все за меня: это был Бонапарт. Он прочитал Вольнэ и хотел получить Египет таким, какой он есть. Мечта его была столь же безумна, сколь грандиозна. Он говорил, что завоюет землю фараонов и их письменность, и считал, что на это способен. Победитель при Риволи[15] поведет экспедицию в Египет. Так он мне сказал. И мы, ученые Республики, мы разгадаем эти тайны.
Я познакомился с Бонапартом в 1797 году во время Итальянской кампании, которая закончилась поражением Австрии и договором в Кампоформио.[16] Бельгия, Милан, часть Венецианской республики и левый берег Рейна отошли к Франции.
Максимилиан Робеспьер был, в свою очередь, обезглавлен.
Страной начала руководить Директория.[17] Быть может, ее члены и ненавидели (или, скорее, опасались) Бонапарта, однако никто не осмеливался противостоять этому гражданину, любимому и признанному народом. Он одерживал победы, он грабил побежденных и заполнял казну государства, которое в этом весьма нуждалось.
Я говорю со знанием дела, ибо отвечал за инвентаризацию и сбор шедевров в Италии, которые из-за поражения стали собственностью Франции. Эти фактические грабежи — не лучшее воспоминание моей жизни, но мы были на войне, и нам не хватало главного: золота и серебра.
Бонапарт привез оттуда даже больше, чем злословили в кругах парижских политиков. Эта зависимость от блестящего солдата крайне раздражала членов Директории, но и ответное раздражение было не меньшим.
— Богачи! Бездарности! — рычал Бонапарт.
В тот же день 1797 года он ворвался в резиденцию в гневе, что не вязался с таким тщедушным телом. Лицо его было бледно.