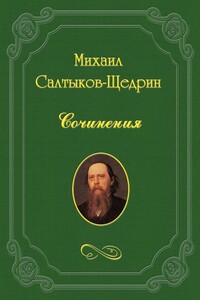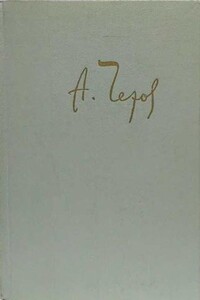Господа ташкентцы | страница 40
И вдруг мы узнаем, что наш Петя трется около какого-то генерала и что тот употребляет его в качестве цивилизатора!..
Но счастье ужасно изменяет человека. В ту минуту, как я пишу эти строки, Накатников уже состоит в чине штатского генерала, имеет на груди очень почтенное украшение… и говорит! Я не могу утверждать, что он говорит разумно, но он говорит, и этого уже для меня достаточно. Слова следуют друг за другом в порядке; по временам можно даже различить мысленное присутствие знаков препинания. Чего больше нужно? Прежняя бродячая улыбка еще мелькает на губах, но теперь она уже имеет характер благосклонности; кончик языка по-прежнему беспокойно прилизывает искусно заправленные концы усов, но теперь это движение уже не кажется просто инстинктивным, а выражает какую-то– озабоченность. Голова его причесана еще тщательнее, безукоризненные бакенбарды обрамливают блистающее свежестью лицо; но ничто не напоминает ни о долгих часах туалета, ни о томительных совещаниях по поводу какого-нибудь непокорного волоска. Напротив того, кажется, что Пьер исключительно поглощен заботами своей миссии, а прическа тут так себе… пришла сама собою.
Как произошла эта метаморфоза – я с точностью объяснить не могу, но несомненно, что тут большую роль играло то случайное положение, которое Пьер успел занять. Положения обязывают. С расширением горизонтов явления самые общеизвестные и бесспорные утрачивают свою резкость и даже изменяют свои первоначальные названия. Глупость начинает называться благодушием, коварство – дипломатией, мошенничество – искусством жить на свете. В чине коллежского регистратора Пьер был глуп; теперь, в чине штатского генерала, он сделался благодушен. Глупость неприятна, и ежели не представляет положительного порока, то, во всяком случае, никого не украшает; напротив того, благодушие есть качество очень положительное и по преимуществу украшающее…
Пьер обошел всех по очереди; всем сказал слово ободрения и надежды, и когда приблизился к моему соседу, то я совершенно явственно услышал как бы случайно оброненное им слово: «шут»!
Я понял, что это слово было пущено по моему адресу, и, признаюсь откровенно, весь вспыхнул от удовольствия. Это слово разом перенесло меня к милой односложности нашего школьного прошлого. Мало того: оно заключало в себе отпущение всех моих недавних проказ. Я просветлел и переминался с ноги на ногу в ожидании аудиенции. Я видел в нем уже не товарища и не глупца, незаслуженно занявшего завидное положение, а какое-то высшее существо, которому я обязан был принести в жертву все. «До последней капли крови!», «не щадя живота!», «не токмо за страх, но и за совесть!» – вот единственные формулы, которые бессознательно выработывали мои мозги, под влиянием внезапного прилива преданности. Наконец просители были удовлетворены, и мы остались вдвоем.