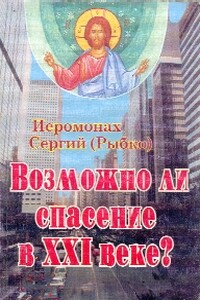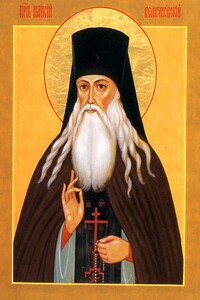Православное учение о спасении | страница 54
Таким образом, торжество добра необходимо предполагается его истиной; вечное блаженство праведников есть свидетельство об истинности Христова учения. Если добро и зло имеют одинаковые права на существование, или не имеют его, одинаково вечны, тогда нет оснований выбирать первое, закон бытия, в таком случае, «да ямы и пиемы». Это одно из весьма важных оснований, почему необходимо при учении о добродетели указывать на следующее за нею вечное блаженство.
Но нам скажут, что в Св. Писании и творениях отцов Церкви встречаются не только указания на будущее торжество добра, как на залог его истинности, но и прямые попытки побудить человека к доброделанию обещанием награды, попытки, по-видимому, говорящие в пользу опровергаемого нами правового жизнепонимания.
Ввиду всего вышесказанного, мы можем решительно ответить, что для таких попыток нужно искать причину не в учении, а вне его, их нужно понимать, как неизбежны уступки обычному человеческому настроению.
Истинные христиане, в которых «пребывало помазание Божье», конечно, по слову апостола, «не имели нужды, чтобы кто учил их» (I Ио. II, 27); горя любовью ко Христу, они, конечно, не тяготились исполнением Его воли. Проповедникам истины приходилось обращаться главным образом к грешникам, к обленившимся нравственно. Как же они (проповедники) могли не применяться к уровню своих слушателей? Мог ли себялюбец понять, что прогневлять Бога тяжело и стыдно, когда вся его забота направлена только на его собственное благополучие? Необходимо, след., было ему, прежде всего, указать, что и для его благополучия пребывать во грехах пагубно, что прогневать Бога не только прискорбно и стыдно, но и страшно. Нужно было человеку сначала «возбудиться» и познать свое «заблуждение», чтобы потом уже приступить «с открытым лицом» (2 Кор. III. 14 – 16) к познанию истины. «Когда, читаем мы у св. Григория Нисского, иные, как говорит Апостол, в нечаяние вложшеся предадут себе (Евр. IV, 19) жизни греховной, став подлинно какими-то мертвыми и недействующими для жизни добродетельной, ни мало не чувствуют они, что делают. Если же коснется их какое-нибудь врачующее слово как бы горячими какими и опаляющими составами – разумею строгие угрозы будущим судом, – и страхом ожидаемого до глубины проникнет сердце, и в нем, оцепеневшем от страстей сластолюбия (корень себялюбия), как бы растирая и согревая, подобно какому-то горячительному и острому веществу, – страх геенны, огнь неугасимый, червь не умирающий, скрежет зубов, не престающий плач, тьму кромешную и все сему подобное, заставить почувствовать ту жизнь, какую проводит; то соделает его достойным ублажения, произведя в душе болезненное чувство»