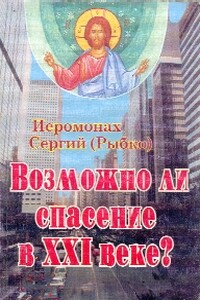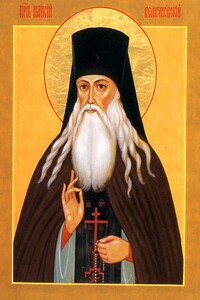Православное учение о спасении | страница 32
Поэтому жизнь человека после крещения отнюдь не состояние бездеятельного блаженства и непроизвольного доброделания (как она должна представляться на западе), а наоборот, деятельное последование Христу (Кол. III, I – 14). Земная жизнь – сеяние, а загробная – жатва, и потому человек должен сеять добро, чтобы потом наследовать блаженство (Гал. YI, 7 – 10), он должен, как прилежный муравей, скоплять плоды для будущей жизни [99]), собирать себе то „неветшающеее богатство, собирать которое не только не порок, но и великая добродетель и награда» [100].
Итак, человек оправданный делает добро произвольно и постоянно сознает и убежден в том, что делает „ради чести в царстве небесном», чтобы ему „заслужить похвалу от Бога, как добрый раб, и удостоиться каких-нибудь почестей» [101]; так что, если бы не было этого убеждения, если бы человек не ожидал этой награды на небесах, тогда и добродетельная жизнь была бы бессмысленной и потому невозможной. „Кто захотел бы принимать на себя столь горькие труды, если бы не имел сладкой надежды во Христа?" [102]. „Стали ли бы мы соблюдать себя в такой чистоте, если бы мы не признавали, что Бог бодрствует над человеческим родом? Конечно, нет. Но так как мы веруем, что отдадим отчет во всей настоящей жизни Богу, сотворившему и нас, и мир: то мы избираем жизнь воздержную, человеколюбивую и уничиженную, – зная, что здесь не можем потерпеть, хотя бы нас лишили жизни, никакого зла, которое бы сравнялось с благами нам уготованными от Великого Судии за кроткую, человеколюбивую и скромную жизнь» [103]. Доброделание, таким образом, есть необходимое условие спасения.
Но здесь опять можно спросить, в каком смысл доброделание признается условием спасения: оно может быть только внешним основанием для получения спасения, но может быть и условием в собственном смысле, производителем спасения. Тот и другой ответ, будучи весьма близки один к другому по форме, со стороны своего содержания весьма, чтобы не сказать, в корне различаются один от другого: они могут служить выразителями двух совершенно противоположных, взаимно исключающихся жизнепониманий: мирского, языческого и христианского.
Себялюбец живет для себя, свое „я» поставляет средоточием мира, с точки зрения этого „я» оценивает все происходящее и в своей, и в общемировой жизни. Цель его – собственное благополучие, высшее благо – наслаждение, в виде ли чувственных удовольствий, или в какой-нибудь нирване и т. п. в этом роде.