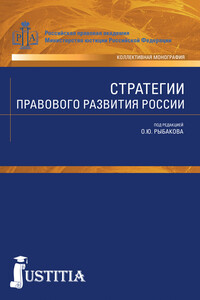Уголовная защита | страница 101
Когда вы предполагаете просить суд о дополнительном вопросе, имейте в виду, что вам могут отказать. Что из этого следует? То, что надо вразумительно разяснить основания к этому ходатайству еще во время защитительной речи: присяжные будут знать, что ваше требование, хотя и признанное неуважительным, имело разумные основания.
Защитнику следует заранее обдумать возможные видоизменения обвинения, заготовить текст предполагаемых им дополнительных вопросов и старательно проверить их карательные последствия. Иначе легко ошибиться.
Двое подсудимых обвинялись по 4 п. 1453 ст. ул. Обстоятельства дела были очень неясны. Защитники доказывали, что раны были нанесены пострадавшему не с целью ограбления и без умысла на убийство. Это было совершенно правильной защитой, ибо при применении к подсудимым 2 ч. 1484 ст. улож. и 169 ст. уст. о нак. они подлежали бы арестантским отделениям на три или три с половиною года вместо бессрочной каторги или, при снисхождении в полной мере, каторги на десять лет. Когда суд огласил проект вопросов, защитники просили перерыва для их обозрения. После совещания друг с другом один из них заявил ходатайство о дополнительных вопросах по 1634 и 1484 ст. улож. Председатель спросил, по какой части 1484 статьи; защитник ответил – по первой. Загляните в уложение, читатель, и вы увидите, что наказание за «разбой, соединенный со смертоубийством, хотя и без прямого на оное намерения» установлена по 1634 и 1 ч. 1459 ст. каторга от 8 до 12 лет, а по 1 ч. 1484 ст., т.е. если смерть последовала от ран или увечий, причиненных с заранее обдуманным намерением, также каторга от 8 до 10 лет. Много ли могли выиграть подсудимые от таких вопросов?
Ошибаются и судьи. Бывает, что в вопросе оказывается пропущенным один из законных признаков преступления или признак, увеличивающий ответственность. Это – счастье подсудимого, и защитник не обязан указывать суду на сделанный промах; это дело прокурора. Но защитник должен уметь воспользоваться произошедшей ошибкой и после решения присяжных сделать соответствующее заявление, т.е. указать суду, что в признанных ими фактах нет состава преступления или есть преступление меньшее, чем предполагалось. Насколько это важно, можно видеть из следующего дела. Фирсов и Дмитриев обвинялись по 1647 ст. улож. о нак.; по обстоятельствам дела суд поставил дополнительные вопросы о покушении на кражу. В вопросе было сказано: «Виновен ли подсудимый Григорий Фирсов в том, что 19 июля 1907 г. в С.-Петербурге с целью тайного похищения чугуна, находящегося в обитаемом дворе Обуховского сталелитейного завода, по предварительному уговору и совместно с другим лицом сломал доски в заборе, ограждавшем этот двор, но намерения своего в исполнение привести не успел по не зависевшим от него обстоятельствам? Такой же вопрос был поставлен о подсудимом Александре Дмитриеве. Присяжные заседатели ответили на оба вопроса: „Да, виновен, но досок в заборе не ломал“. Суд постановил обвинительный приговор. Фирсов был присужден к тюремному заключению на пять месяцев, Дмитриев – к лишению особых прав и арестантским отделениям на один год с последующей высылкой. Таким образом, суд признал преступлением то, что подсудимые подошли к чужому забору с преступною целью. Ни судьи, ни прокурор не заметили этой ошибки. Не заметили ее и защитники – двое присяжных поверенных. Приговор вступил в законную силу, и Фирсов и Дмитриев отбыли наказание за деяние, законом не воспрещенное.