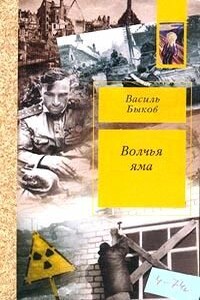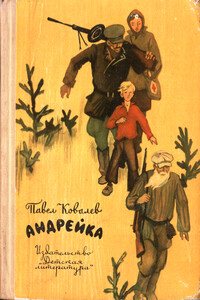Блиндаж | страница 42
А если теперь вот напишут на него самого? Хотя бы за эту компанию с немецким ефрейтором? Видно, так же не поздоровится, невзирая на то, что ранен.
“Ну и черт с ним!” — ругался мысленно Хлебников. Уж, видно, теперь ему не страшно ничего. Теперь он не командир и даже не раненый. Теперь он — слепец, калека, нищий. А нищему-калеке можно все. Все, что допускает его совесть. Плевать ему на других и их зрячие заботы. Они — не он. Ибо они — зрячие.
Ему бы только вот закурить…
Но в блиндаже спали, а Серафима еще не приходила, значит, была ночь, день еще не наступил. Но, наверное, наступит. Что только он принесет им в этот блиндаж?
От долгого лежания на твердых земляных комьях давно уже ныли бедра, он крутился на шинели, пробуя лечь и так, и этак, но было по-прежнему жестко и неудобно. Сон приходил урывками, как у птицы на дереве; Хлебников то коротко дремал, то опять возвращался к безрадостной своей реальности. Все же здесь, в блиндаже, он чувствовал себя старшим над двумя другими, хотя его никто не назначал, но по давнему военному обычаю он решал за всех и удивился б, если бы кто-нибудь его ослушался. Жаль, что оба его подчиненные были с явным браком: один — немец, который все ж слабо понимал по-русски, а второй — больной. Кого пошлешь, если понадобится? Сам он тоже не ходок. Оставалась только Серафима.
Вновь Серафима. Как ни мудри, весь мир для них, видать, сходится на этой сельской тетке.
9. Серафимка
Когда Серафимка с затаенным страхом прибежала в деревню, полицаев уже нигде не было — видать, куда-то смылись или, может, искали ее где-то в ином месте. Но теперь она их не боялась: Демидовича она немного пристроила, а что он к ней приходил, то что же: зашел и ушел. Откуда ей знать — куда? У него свои дела, у нее свои.
Забот, конечно, у нее прибавилось, как никогда раньше. До сих пор она приноровилась жить с малыми запросами, даже совсем без запросов: была краюха хлеба и бульбина — и ладно. А не было — тоже не плакала, как-то обходилась, не умерла же, вот дожила до сорока лет и, слава Богу, еще здоровая. А что одна — беда невелика. Это не то что у других — семьи, дети, каждый день нужно наготовить им еды, накормить, одеть. У нее ничего не было в хозяйстве, только двадцать соток огорода, где она весной под лопату старалась посадить бульбу, ну еще немного огурцов, луку, свеклы — тем и жила. В колхоз ходила ежедневно, куда посылал бригадир: летом на полевые работы — прополка, уборка, осенью — обмолот, и всю зиму — лен. В прошлом году выгнала аж пятьсот двадцать трудодней, ни одна баба в Любашах столько не выгоняла. Правда, пользы с того имела негусто: осенью при распределении дали зерна и гороха — принесла все на себе в торбе. И телегу не пришлось просить. Но ей хватало. В прежние годы держала корову, да корову хорошо держать летом, а чем ее прокормить зимой? Все ж корова — не человек, ей не скажешь, что сена нету, из колхоза не дали, а накосить Серафимка не могла, не те уже были руки. Продала корову, когда нанимала мужчин подправить хату — надо было менять подрубку, стало очень уж холодно в морозы, и она распрощалась со своей Цветонею. Было три курочки, исправно неслись, да, холера на нее, прошлым летом повадилась лиса — вестимо же, усадьба на отшибе, рядом кустарник — в три дня и передушила всех ее трех рябеньких. Осталась Серафимка совсем одна. Радость, что хата так-сяк уцелела, другим повезло меньше — ни имущества, ни харча, ни жилья. Куда теперь деваться с ребятами?