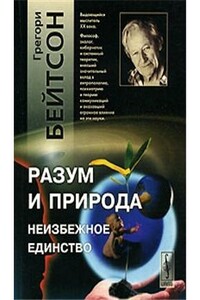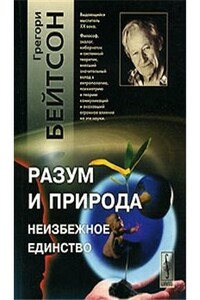АНГЕЛЫ СТРАШАТСЯ | страница 68
Иллюзия достигается с помощью рычагов под столом. Когда испытуемый наклоняет планку, предметы также передвигаются.
Другими словами, ваш механизм восприятия управляется системой допущений, которую я называю вашей эпистемологией – цельной философией, находящейся глубоко у вас в мозгу, но вне вашего сознания.
Конечно, вам не обязательно двигать головой каждый раз, как только вы захотите узнать глубину. Для этой цели вы можете полагаться на другие имеющиеся у вас допущения. Во-первых, контраст между тем, что вы видите одним, глазом, и тем, что вы видите другим, можно сравнить с контрастом, получаемым при движении головы. После этого вы можете свериться с целой серией допущений, отличных от параллакса: * если кажется, что вещи накладывают друг на друга, тот предмет, который частично закрыт, находится дальше предмета, его закрывающего; если похожие предметы кажутся разных размеров, тот, который кажется больше, – ближе и т.д.
[Эксперименты Эймса можно использовать для демонстрации двух важных понятий: первое, что образы не находятся «вовне», и второе – мы не осознаем, что происходит в нашем мозгу. Мы думаем, что видим. Но на самом деле мы создаем образы, причем бессознательно. Как же тогда понять знаменитый вывод Декарта: «Мыслю, следовательно, существую»?
Что означает это «мыслю»? Что вообще значит мыслить? Что означает «быть», «существовать»? Означает ли это «я думаю, что я думаю, и поэтому я думаю, что я существую, что я есть»? Могу ли я знать, что я мыслю? И полагаемся ли мы, приходя к такому выводу, на допущения, которых мы не сознаем?
Существует расхождение логического типа между «мыслить» и «существовать». Декарт пытается перепрыгнуть из сковородки мышления, идей, образов, мнений, аргументов в огонь существования и действия. Но этот прыжок сам не обозначен. Между двумя такими контрастирующими понятиями не может быть «следовательно», не может быть самоочевидной связи в виде звена перехода.
Параллельно этому высказыванию существует еще одно эпистемологическое обобщение: «Я вижу, следовательно, это существует». Видение есть вера. Можно и перефразировать это высказывание: «Ощущаю, следовательно, существует». Две половинки декартовского «мыслю» относятся к одному субъекту, первому лицу единственного числа, но в «ощущаю…» уже два субъекта: "Я" и «это». Эти два субъекта разделены обстоятельствами представлений. «Это», которое я ощущаю, двусмысленно: мой ли это образ? Или это какой-то объект вне меня – «вещь в себе», о которой я составляю образ? Или, возможно, «этого» вообще нет?