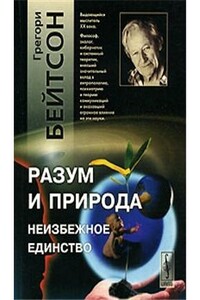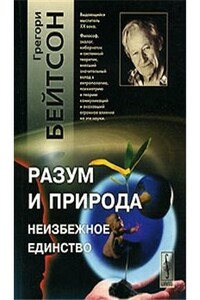АНГЕЛЫ СТРАШАТСЯ | страница 17
Я считаю, что первые эпистемологические шаги Декарта – отделение «разума» от «материи» – создали плохие предпосылки, возможно, даже смертельного характера, для эпистемологии, и я считаю, что утверждение Юнга о связи между Плеромой и Креатурой – намного более правильный шаг. Эпистемология Юнга начинается со сравнения различий, а не с материи.
Поэтому я определяю Эпистемологию как науку, изучающую процесс познания – взаимосвязь возможности реагировать на различия, с одной стороны, с материальным миром, в котором эти различия зарождаются, с другой. Таким образом, нас интересует пограничная область между Плеромой и Креатурой.
Есть и более общепринятое определение эпистемологии, которое просто говорит, что Эпистемология есть философское изучение того, как возможно осуществление процесса познания. Я предпочитаю свое определение – как осуществляется процесс познания, так как оно включает Креатуру в рамки большего, предположительно безжизненного царства Плеромы и потому, что мое определение четко говорит об эпистемологии как изучении явления на стыке и как разделе природоведения.
Позвольте мне начать это исследование упоминанием об основной характерной черте стыка между Плеромой и Креатурой, которое, возможно, поможет определить направление моей мысли. Я имею в виду то, что стык между Плеромой и Креатурой является примером контраста, противопоставления между «картой» и «территорией». И это, я у полагаю, является первым и основным примером. Это то противопоставление, к которому Альфред Коржитски давным-давно привлек внимание, и оно остается основным для всех правильных эпистемологии и основным для Эпистемологии.
Каждый человеческий индивидуум, каждый организм имеет свои персональные привычки по созданию знаний, и каждая культурная, религиозная или научная система способствует созданию таких эпистемологических привычек. Это индивидуальные или локальные системы обозначены здесь строчной буквой "э". Уоррен Маккулох обычно говорил, что человек, претендующий на обладание непосредственным знанием, то есть без эпистемологии, обладал плохим знанием.
Дойти до сравнения между многообразными системами и, возможно, оценить, какую цену приходится платить запутанным системам за свои ошибки, входит в задачу антропологов. Большая часть локальных эпистемологии – персональных и культурных – постоянно ошибается, увы, путая карту с территорией и полагая, что правила выполнения карт внутренне присущи природе того, что изображено на картах.