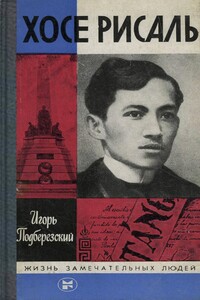Аполлон Григорьев | страница 56
Еще более резко Григорьев говорит на эту тему в поэме «Олимпий Радин»:
Эти резкие пассажи можно объяснить неутихающим раздражением автора против деспотизма его собственных любящих сына родителей, но их смысл, наверное, лежит глубже. Возможно, тут всплывал пресловутый «принцип корзиночки»: от своей семейной жизни с родителями остались тяжкие воспоминания, собственной семьи не получалось, любимая стала создавать семью с ненавистным соперником; все семьи вокруг – чужие, своей — нет, и когда в этих обстоятельствах кто-то начинает воспевать тихую, радостную гармонию семейной жизни, то хочется браниться и отталкиваться, доказывать, что ничего подобного быть не может. Это лишь предположение, документов у нас нет, но предположение очень правдоподобное: ведь стихийный протестант так и не сможет создать нормальную семью, его попытки заканчивались горькими неудачами.
Гегельянец, фурьерист, славянофил — фигуры одномерные, автор без колебаний смеется над ними. Значительно более сложным оказывается его отношение к образам масонов. Они, как правило, не только люди глубокой духовности и широкие натуры, но еще и большие эгоисты с примесью наполеонизма. Как говорит герой повести «Один из многих» Званинцев, «… на все и на всех смотрю я, как на шашки, которые можно переставлять и, пожалуй, уничтожать по произволу (…) для меня нет границ…».
И Григорьева завораживали такие «наполеоны», как его заворожил и реальный проходимец Милановский. Запутанную двойственность Званинцева автор открыто декларировал: «Истина и ложь, страсть и притворство так были тесно соединены в натуре Званинцева, что сам автор этого рассказа не решит вопроса о том, правду ли говорил он. Есть грань, на которой высочайшее притворство есть вместе и высочайшая искренность. Да и что такое искренность? Разве можно быть искренним даже с самим собою, разве можно знать себя?»
Если в женских образах у Григорьева господствовала болезненность, то в мужских — двойственность. Автор расширял эту черту до всеобщности, до отражения вообще духа эпохи: «… жизнь Виталина была двойственна, как жизнь каждого из нас». В самом деле, «каждый из нас», то есть русский интеллигент сороковых годов, имел перед собой несколько не соединяющихся между собою сфер, не только не похожих друг на друга, но часто и враждебно противоположных: официально-служебную, клубную, семейную, лично-интимную. Переносясь из одной сферы в контрастную ей, человек существенно меняет воззрения, привычки, весь стиль мышления и поведения. Крайняя степень такого расщепления и переключения оказывается двойничеством: человек начинает ощущать в себе двух разных лиц, чуть ли не физически даже разделенных! Таков хорошо изображенный в литературе путь двойников у Гофмана, Гоголя, Достоевского. Влияние Гофмана на Григорьева вначале было очень велико. Заметим, что название дневниковых очерков «Листки из рукописи скитающегося софиста» наш писатель заимствовал у Гофмана; у того: «Листки из дневника странствующего энтузиаста». Григорьев как личность в какой-то степени «освобождался» от своей двойственности на грани двойничества, воплощая в художественных романтических образах некоторые двойнические черты (или стремления) своей натуры: страстная экзальтация, демонизм, эгоизм и т.п.