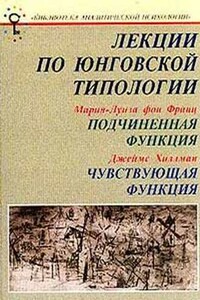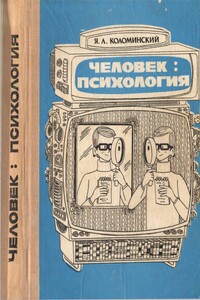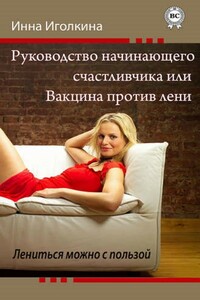Самоубийство и душа | страница 19
Но жизнь может быть продлена только за счет смерти. Улучшение жизни, следовательно, означает отсрочку смерти. Смерть как одно из тех явлений, от которых медицина не имеет лекарства, является архиврагом всей структуры. Самоубийство, прекращающее физическую жизнь пациента, в таком случае становится главным состоянием, с которым нужно бороться. Служа жизни пациента, врач отныне стремится заниматься ее единственным аспектом — продолжительностью. Врач обязан задерживать наступление смерти любыми средствами, имеющимися в его распоряжении. И все же вольно или невольно самая здоровая жизнь в самом прекрасном теле ежедневно продвигается в направлении к смерти.
Как может врач объективно решить проблему самоубийства в условиях своего относительного безразличия к психологическим последствиям собственных действий, преследуя лишь одну цель — продлить физическую жизнь своего подопечного? Его обязанность в рамках профессии сделала его догматическим служакой в деле поддержания и продления жизни по аналогии с теологом, защищающим догматы своей веры. Его корневая метафора в том виде, в каком она интерпретируется сегодня, не дает ему возможности выбора, кроме защиты продолжения физической жизни любой ценой. Самоубийство укорачивает жизнь; следовательно, оно не может содействовать ее продлению. Врач не может исследовать смерть вместе с пациентом. В любой момент риск реальности смерти может заставить его отступить назад. В рамках корневой метафоры медицины врачу вверяется значительная и благородная миссия, но пределы последней достигаются именно тогда, когда он сталкивается с расследованием самоубийства. Самоубийство означает смерть, архиврага. Оно заранее осуждено медицинской моделью мышления. С медицинской точки зрения его можно понять только как симптом болезни — отклонение, отчуждение и разрыв, подход к которому однозначен: предотвратить.
Модели, на базе которых представленные четыре области знания — социология, право, теология и медицина, более других связанные с самоубийством, — рассматривают эту проблему, для аналитика пользы не имеют. Все они заранее осуждают самоубийство, частично потому, что оно угрожает корневым метафорам, на которых они основаны. Следовательно, все эти области солидарны в своих подходах. Их главной заботой является предотвращение самоубийства, так как принципы их подходов не допускают и мысли о возможности смерти. Этот страх связан с тем, что они не находят адекватного места для смерти в рамках собственных моделей мышления. Носители представленных моделей знания рассматривают смерть как внешнее явление по отношению к жизни, а не как нечто живущее в самой душе, как постоянную душевную потенцию и альтернативу жизни. Признав наличие последних, они были бы вынуждены признать самоубийство, угрожая таким образом основам своего собственного знания. Ибо и Общество, и Право, и Церковь, и сама Жизнь оказались бы тогда в опасности.