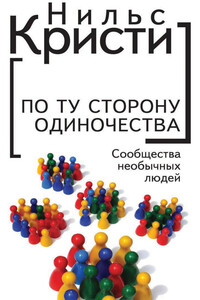Пределы наказания | страница 65
Что же они вместо этого делают?
Во-первых, важно прежде всего понять, что представление о том, что всякий конфликт обязательно должен быть разрешен, отражает пуританскую, этноцентрическую точку зрения. Большую часть моей жизни я также считал это само собой разумеющимся — пока мне не удалось осознать ограниченность такого подхода. Затем некоторое время я пользовался альтернативным понятием — «управление конфликтом». Это опять-таки был узкий, этноцентристски детерминированный выбор. Английское «to manage» исторически связано с итальянским выражением, обозначающим обучение лошади работе на манеже, а в наше время — со словом «менеджер», обозначающим человека, который управляет деятельностью других лиц. Все это очень далеко от термина «причастность». Вероятно, точнее было бы говорить о «урегулировании конфликтов». Конфликты могут разрешаться, но с ними можно и жить. Выражение «причастность к разрешению конфликта» подходит, пожалуй, больше всего. Оно направляет внимание не на результат, а на процесс. Быть может, участие важнее, чем само решение.
Конфликты не обязательно следует относить к «плохим вещам». Их можно также рассматривать как нечто ценное, чем нельзя пренебрегать. Было бы неправильно говорить, что современное общество отличается изобилием конфликтов; их скорее недостаточно. Существует опасность, что они могут быть утеряны или — и это случается чаще — похищены. В нашем обществе жертва преступления теряет дважды. Один раз во взаимодействии, с преступником, другой раз во взаимодействии с государством. Жертва лишена возможности участвовать в разрешении своего собственного конфликта. Ее конфликт похищен государством, причем кража совершается профессионалами. Я рассмотрел этот вопрос в своей статье «Конфликт как достояние» (Кристи, 1977) и здесь не стану вдаваться в подробности. Я лишь воспроизведу одно положение, из которого видно, что мы теряем вследствие кражи конфликтов.
Во-первых, мы теряем возможность уяснения нормы. Это утрата возможности педагогического воздействия. Мы теряем возможность постоянного обсуждения того, что есть право нашей страны. Насколько не прав вор, настолько прав потерпевший. Как уже отмечалось, юристы обучены тому, чтобы выяснять то, что следует считать в деле наиболее важным. Но это означает сформированную неспособность предоставить возможность сторонам самим решать, что, по их собственному мнению, имеет значение. Это означает, что в суде трудно вести дискуссии, которые можно было бы назвать политическими. Когда жертва мала и слаба, а преступник большой и сильный — какого порицания заслуживает тогда преступление? И что можно сказать о деле, в котором, напротив, фигурируют мелкий вор и крупный домовладелец? Если преступник хорошо образован, то должен ли он в таком случае больше — или, быть может, меньше — страдать эа совершенные грехи? А если он негр или молод? Если в качестве другой стороны выступает страховая компания? Если его только что оставила жена? Если его фабрика потерпит крах в случае приговора к тюремному заключению? Если его дочь потеряет своего жениха? Если он действовал в состоянии опьянения либо был в отчаянии или в ярости? Этому перечню нет конца. И быть может, так и должно быть. Возможно, право аборигенов Северной Родезии, описанное М. Глук-маном (1967), в большей мере пригодно для уяснения норм, поскольку позволяет конфликтующим сторонам всякий раз выносить на обсуждение весь перечень старых претензий и доводов (с. 8).